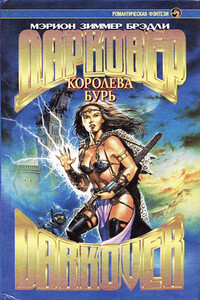Герцен - [2]
Депутат России, европеец, исповедовавший русский мессианизм, Герцен как бы продолжал традицию, начатую еще «Письмами русского путешественника» (недаром он сочувственно цитирует Карамзина). Только это поверхностное он далеко углубил, и больше, чем кто-либо, имел право быть на чужбине представителем родины. Ему к лицу была эта роль, он сливал два мира, он преодолевал межи и границы, потому что с самых юных лет в жаждущее и плодоносящее русло его сознания обильными волнами вливалась культура. Он был к ней как-то органически предрасположен – европеец до Европы и больше Европы. Никогда и ни в каком отношении Герцен не был провинциалом, везде он оказывался выше среды, и только потому его разочарование в Западе могло быть так жгуче и серьезно, что западные ценности, европейские идеалы были в его душевной стране гораздо полнее и подлиннее, чем в их географической отчизне. Вот почему, переехав русскую границу, он в известном смысле приехал к себе домой. И вот почему он попал там в самый центр, тем более что и по натуре своей он всегда был централен, нигде не был второстепенен, никогда не мог растеряться, ни на каких подмостках не являлся статистом. Его нельзя было не заметить; к тому же этот принц и не хотел, и не умел incognito, и шапка-невидимка была бы создана не для него.
Умственное море Герцена всегда фосфоресцировало. На всем его протяжении нет штиля и мертвой зыби; нет зато и вечной глубины, того спокойствия и тихого величия, той скромности, которые нужны для последних, философских откровений. Он имеет признаки высокого дилетантизма, такой гениальности, которая не осуществила себя до конца и не пришла к своему средоточию. Можно упрекнуть его в несосредоточенности. Есть, однако, своя красота и мудрость именно в таком типе человеческих дарований, в этой несобранности герценовского гения. Творец «Былого и дум» – какое-то олицетворение таланта, талант вообще. Герцен – особая категория. Многосторонний, но не пестрый, всего касающийся и нигде не поверхностный, он ни на чем душою не специализируется, и все-таки не сетуешь на отсутствие в нем великой односюронности. Он хорош и так. Обаятельна его рассеянная мощь, и невольно ею любуешься. Он сам говорит: «Жизнь полная выше гениальной односторонности». Характерно, что он ценил философский плюрализм и предпочитал Спинозе Лейбница, единой субстанции – бесчисленные монады: «У Лейбница в каждой росинке блестит то солнце, которое одно на небе Спинозы».
Множественный, по росинкам расточавший свое солнце, Герцен вместе с тем не эклектик. Он всю жизнь возвращался к одним и тем же вопросам, он был ими поистине заинтересован и в каждый из них вносил дорогую лепту своего разума и своего пафоса; это и создавало особый тембр ею души.
Но верно то, что завершающая цельность, «гениальная односторонность» ему не была суждена. Каждая из его отдельных граней так значительна, каждое из его дарований так ярко, что, может быть, именно благодаря этому они и не могли сходиться в какую-нибудь систему, за исключением той живой системы, которую представляет собою всякая личность, и особенно такая личность по преимуществу, какою был Герцен. Возможна была, как мы уже сказали, только царственная встреча способностей, но не их окончательный синтез. В самом деле, основатель «Колокола» был трибун, но трибун не до конца; он был и художник, но не вполне; он был замечательный мыслитель, но не оставил своей оригинальной философии. Ему мешало собственное богатство, духовная роскошность; он испытывал действительное embarras de richesses [1], тесноту от избытка. Такие обильные и такие различные лучи не находили себе единого фокуса.
Трибун и революционер, Герцен в то же время слишком понимал всю трагическую неторопливость истории, преодолевающую безумные попытки решительных переворотов, и потому в его психологию вождя, которому необходимо иметь нечто от однодумного фанатизма и почти ничего не иметь от сомнений и колебаний многодумного Гамлета, – в эту психологию властной уверенности должны были проникать элементы скептицизма. С ними Герцен справился, потому что он был революционнее революции. Отвергая ее догматы, ее буквы, ее плоть, которая, цепенея, умерщвляет ее же дух, он сохранил в себе внутренний максимализм, он взял революцию к себе в душу, – и как раз потому, без ложного стыда, гордо и спокойно, призывал к умеренности. Есть какое-то прекрасное и знаменательное противоречие в том, что умеренное он проповедовал страстно, что срединное он давал в крайней форме, т. е. в форме крайней красоты и одушевленности. Надо было собою, пламенной тратой собственной души, радикализмом таланта возмещать и пополнять все то скудное, пошлое и дряблое, что может сопутствовать умеренности, – и в герценовском огне она получала свое искупительное очищение. И надо было проявить особое гражданское мужество, для того чтобы в среде внешних революционеров, «вечных женихов революционной Пенелопы», обрекая себя на их негодование, написать на своем знамени то бледное слово «постепенность», которого, по точному свидетельству самого Герцена, он нисколько не боялся. И правда, аристократ может безнаказанно прикасаться к мещанским ценностям, – они тогда перестают быть мещанскими. Может быть, и самое прикосновение Герцена к политике было с его стороны великой жертвой: ведь этот человек, стоявший не только относительно, в пределах своей эпохи, но и абсолютно на самых высотах ума и дарования, вынужден был бороться за азбуку. Если и вообще все то, что осуществимо силами государства, как такового, это – азбука, то Герцен, в программе которого, как pium desiderium (благое пожелание (лат.)) значилось и освобождение податного сословия от побоев, – Герцен еще более дорог и ценен тем, что не побрезгал этой элементарностью и не ушел от нее в те сияющие дали, которые были ему так доступны и желанны. Политический набат русского колокола осуществлял такой звонарь, который по своей утонченности походил на Carillonneur'a у Роденбаха. Публицистикой занимался эстетик, тот, кто не хотел разрушения прежней культуры и заявлял, что «не только жалеет людей, но жалеет и вещи, и иные вещи больше иных людей». Эта аристократическая стихия Герцена не мешала его гражданской работе, не скрывала от нею существа политических и социальных проблем, и многие из них он решал проникновенно и глубоко; и если некоторых его ожиданий, как вера в русскую общину, история не оправдала, то это как-то не компрометирует его ума, его пророческих догадок, и за эту неудачу скорее винишь историю, чем его. Но ясно, во всяком случае, что в одной политике было ему неуютно и тесно, что привязать себя к ней всеми фибрами души он не хотел и не умел.

«Когда-то на смуглом лице юноши Лермонтова Тургенев прочел «зловещее и трагическое, сумрачную и недобрую силу, задумчивую презрительность и страсть». С таким выражением лица поэт и отошел в вечность; другого облика он и не запечатлел в памяти современников и потомства. Между тем внутреннее движение его творчества показывает, что, если бы ему не суждено было умереть так рано, его молодые черты, наверное, стали бы мягче и в них отразились бы тишина и благоволение просветленной души. Ведь перед нами – только драгоценный человеческий осколок, незаконченная жизнь и незаконченная поэзия, какая-то блестящая, но безжалостно укороченная и надорванная психическая нить.

«В представлении русского читателя имена Фета, Майкова и Полонского обыкновенно сливаются в одну поэтическую триаду. И сами участники ее сознавали свое внутреннее родство…».
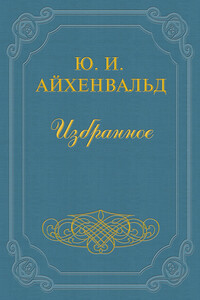
«На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева. У нее есть свой особый, с другими не сливающийся свет, и от нее идет много благородных утешений. Зайцев нежен и хрупок, но в то же время не сходит с реалистической почвы, ни о чем не стесняется говорить, все называет по имени; он часто приникает к земле, к низменности, – однако сам остается не запятнан, как солнечный луч…».
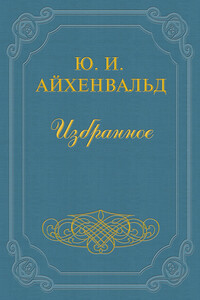
«Сам Щедрин не завещал себя новым поколениям. Он так об этом говорит: „писания мои до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности“…».

«Наиболее поразительной и печальной особенностью Горького является то, что он, этот проповедник свободы и природы, этот – в качестве рассказчика – высокомерный отрицатель культуры, сам, однако, в творчестве своем далеко уклоняется от живой непосредственности, наивной силы и красоты. Ни у кого из писателей так не душно, как у этого любителя воздуха. Ни у кого из писателей так не тесно, как у этого изобразителя просторов и ширей. Дыхание Волги, которое должно бы слышаться на его страницах и освежать их вольной мощью своею, на самом деле заглушено тем резонерством и умышленностью, которые на первых же шагах извратили его перо, посулившее было свежесть и безыскусственность описаний.
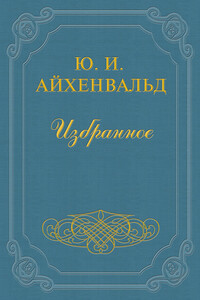
«„Слепой музыкант“ русской литературы, Козлов стал поэтом, когда перед ним, говоря словами Пушкина, „во мгле сокрылся мир земной“. Прикованный к месту и в вечной тьме, он силой духа подавил в себе отчаяние, и то, что в предыдущие годы таилось у него под слоем житейских забот, поэзия потенциальная, теперь осязательно вспыхнуло в его темноте и засветилось как приветливый, тихий, не очень яркий огонек…».
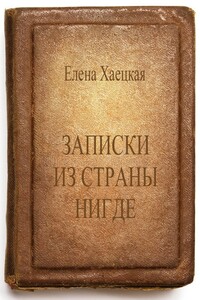
Елена Хаецкая (автор) публиковала эти записки с июня 2016 по (март) 2019 на сайте журнала "ПитерBOOK". О фэнтэзи, истории, жизни...
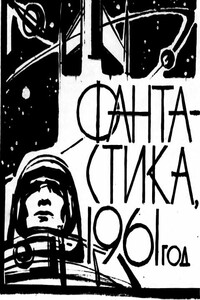
Обзор советской научно-фантастической литературы за 1961 год. Опубликовано: журнал «Техника — молодежи». — 1961. — № 12. — С. 14–16.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
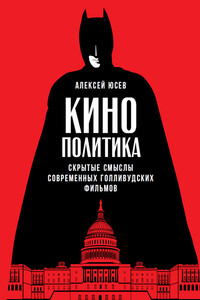
Обычный голливудский фильм полон незаметных для непосвященного зрителя отсылок к реальным людям и событиям. Любопытно, что все эти метафоры и тонкая политическая сатира являются частью отношений между властью и медиахолдингами, которым принадлежат кинокомпании. Что общего у Джамала Малика из фильма «Миллионер из трущоб» и Барака Обамы? Почему в финальных кадрах «Хэнкока» появляется черный орел? Зачем Стивен Спилберг сделал принятие 13-й поправки об отмене рабства ключевым моментом фильма «Линкольн»? Кинокритик Алексей Юсев изучает отношения современного кино и политики уже более десяти лет.

Настоящая заметка была ответом на рецензию Ф. Булгарина «Петр Басманов. Трагедия в пяти действиях. Соч. барона Розена…» («Северная пчела», 1835, № 251, 252, подпись: Кси). Булгарин обвинил молодых авторов «Телескопа» и «Молвы», прежде всего Белинского, в отсутствии патриотизма, в ренегатстве. На защиту Белинского выступил позднее Надеждин в статье «Европеизм и народность, в отношении к русской словесности».