Геракл, прославленный герой - [5]
Любой разговор, начиная с конца, как было принято теперь в наплывах, продвигался к началу перебежками тех не имеющих ценности, быстро найденных слов, которыми владел давно и вспоминал теперь непроизвольно. Ее ответы были непонятны. Она отвечала всей жизнью: навязчивые кошмары банальных поступков: чемоданы, поездки, последним мгновением августа из туч проглянувшее солнце и на тугих ручьях повисшие меж гор озера в хвойном окружении, где чудились на поваленном дереве шишкинские медведи, когда они сидели, прислонившись спинами к стволу, как в комнате под гобеленом, удивляя друг друга наступавшим покоем.
Поодиночке выбирались из общей темноты: она нагибалась, чтобы выйти из длинного платья, прикосновением к внутренней мути разбудив его пыл, замкнутый временем и расстоянием в тех бессловесных раздумьях докадровой жизни, где сохраняются необходимые дни, запеченные на медленном солнце, и та беспредметная, ласковая тишина, откуда перламутровая Афродита выходила на берег, в которой теперь она снимала тонкую одежду, прежде чем стать собой, никогда не отказываясь от своей сокровенной бессмыслицы - тяги к цветам и животным, мгновенной широкой улыбки при взгляде на сына. Она вдруг взглядывала на героя с тоской, остающейся от всего окончательного, странно опаздывая сопротивляться: приближалась развязка их заветной истории - когда все ясно, никого не жалко и в полной тишине несутся титры, будто облака.
И стало тихо. Только шелест ослабевших рук и ни с чем не сравнимая собственная отчетливость, от которой хотелось скорее отвлечься, готовя одежду для веселых прогулок. Город больше не нужен, павильон разбирают, невнятные песни издалека целый день в наставшей бесконфликтной тишине, где попадает в заблудившуюся руку блестящая ложечка, брошенная на столе, и тихий колокольный звук финалом для прошедшей жизни...
Она все еще думала, что кончилось кино. Засыпая, легко отворачивалась к мутно-белой стене - и неизбывное желание поговорить, и пытался сквозь спину вглядеться ей в душу, успокаиваясь до жалости, где можно принять себя в зеркале за другого героя и где по вечерам казался дождь несвязной речью страха и признаний. Эта жалость, испытанная рядом с ней на детях и раздавленных жуках, росла день ото дня - все от коротких, незначимых слов, зажигающих несоразмерную боль, и большой тишины, что стояла в надгробье подобных сюжетов. Он стал думать о том, что ему нужно теперь, когда сыграна его главная роль. Для него это была только роль, он не сжег своей жизни на солнце, принимал свою славу как плату за мастерство, у него был огромный потенциал дальнейших возможностей. Она, спалившая себя в единственно возможном амплуа, скоро выйдет из моды. В том повороте киновремени, куда она перенесла его потенциал невредимым, она была ему не нужна.
Когда она окликала его или прикасалась, он оборачивался из молчания, как издалека, оказываясь в освещенных комнатах с полюсами заснеженных окон, на одном из которых стоял, подбоченясь, кувшин и прятались под челкой ее приподнятые брови, а на другом бесчинствовал надсадный стук часов. Не отгадав услышанного звука, она привычно ошибалась: наивно и неподходяще напевая, гибко вышедшая из платановой тени, смотрела, как сливались силуэты в непредвиденно открывшейся дали, и размышляла, зачем он мог туда пойти. Вдруг догоняла, приближалась - и не знала, что делать в мучительном увеличении происходящего. Жизнь стремительно устаревала, покрывалась зеркальным налетом, она с удивлением узнавала поэтику ретро во всех своих жестах. Когда экранный луч упал на вечер, где она освобождала от посуды, незаметно отпущенной в звон и тонкие трещины, тот край стола, где был еще возможен разговор, - непонятно, без слов, улыбаясь, он молчал, прижимая ладонь к остывающему самовару. В эпизоде новейшего жесткого фильма, где он царил, а ее пригласили на кадр, двумя спокойными глазами он смотрел на нее, не ожидая от нее спокойствия в последнюю их общую минуту. Она мужественно улыбнулась.
В хорошем закадровом доме, который принесло ей то лето, она переходила из комнаты в комнату по ей лишь слышному зову вещей, внося во все спокойное удобство. Уверенно и весело творила ужин своему ребенку с маниакальным постоянством еще лет десять, иногда задыхаясь от скорости проходящего времени, не попадая взглядом ни в чьи глаза... Все это было никому не нужно. Всегда, однако, находилось применение ее заслуженному силуэту на густо декорированном фоне: сидела в профиль, в кринолинах и чепце, мелькала протирающей стекло рукой в окне с геранью, смотрела выпученным глазом в дверной глазок, а в замочную скважину ветер палец совал. Наискосок через время говоря теперь с ней, он как будто презрительно перечислял все, что помнилось от прошедшего лета, вдруг появляясь с будничным поклоном из того далека, где в ночной тишине всполошенная птица смеется о чем-то, чего пока больше не знает никто.
Его карьера продолжалась. Он попадал в места, а заодно и дни, где все, что понятно заранее, просто считается бывшим: киновремя отбрасывало холостые патроны сюжетов в насупленный черно-белый экран, где в ловком амплуа героя он протискивался в мимолетные сцены. Огромными зрачками, распяленными по экрану, притянутые звезды вдруг начинали жарко греть, отапливая парковую осень, в которой гуляли нервозные девушки с круглыми злыми глазами, луна просовывала голову между их головами и показывала язык. В этой новой поэтике комическое не пугало героя. Он пробовал звучный оперный голос, входя в насмешливо-развесистые клены, выпрастываясь головой из разностилевых костюмов, по ходу слов протягивая или убирая руки... А дома - и у него был теперь дом стыдливо разыгрывал перед собой, будто думал и делал все это сознательно: садился, сразу руки выкладывал на стол, пускаясь в легкие слова, недозаполненные смыслом. Черпнув диалоговый раж в шуршании сценарных страниц, где сохранили сумрачные мысли драматурги, потерянные во временно'й перспективе, он молча ввязывался в философский спор, от которого его вдруг отзывало замыкание собственной жизни в как бы случайно соединенных руках. Тогда он шел в свой сад смотреть, как дым от костра уползал за забор возле самой земли небывалых историй, где, вероятно, вполне объясним этот яркий цвет облака, что должно было бы проплыть над сказочным волшебным садом вроде тех, где позабывшие друг друга люди встречаются во сне и плачут.

«Девять дней в июле» – сборник лиричной, ироничной, смешной и доброй прозы.Главное, что объединяет вошедшие в него рассказы и повести – это неунывающий взгляд авторов на жизнь. Даже в самых сложных, и, казалось бы, беспросветных ситуациях, есть выход. И пусть этот выход находится на том конце приснопамятного тоннеля – все равно стоит относиться к этому с юмором и пониманием. Просто потому, что так веселее житьПриятного вам чтения.
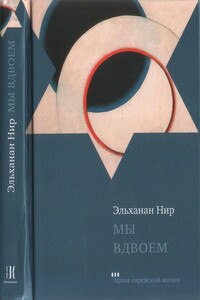
Пристально вглядываясь в себя, в прошлое и настоящее своей семьи, Йонатан Лехави пытается понять причину выпавших на его долю тяжелых испытаний. Подающий надежды в ешиве, он, боясь груза ответственности, бросает обучение и стремится к тихой семейной жизни, хочет стать незаметным. Однако события развиваются помимо его воли, и раз за разом Йонатан оказывается перед новым выбором, пока жизнь, по сути, не возвращает его туда, откуда он когда-то ушел. «Необходимо быть в движении и всегда спрашивать себя, чего ищет душа, чего хочет время, чего хочет Всевышний», — сказал в одном из интервью Эльханан Нир.
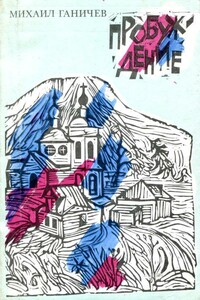
Михаил Ганичев — имя новое в нашей литературе. Его судьба, отразившаяся в повести «Пробуждение», тесно связана с Череповецким металлургическим комбинатом, где он до сих пор работает начальником цеха. Боль за родную русскую землю, за нелегкую жизнь земляков — таков главный лейтмотив произведений писателя с Вологодчины.

Одна из лучших книг года по версии Time и The Washington Post.От автора международного бестселлера «Жена тигра».Пронзительный роман о Диком Западе конца XIX-го века и его призраках.В диких, засушливых землях Аризоны на пороге ХХ века сплетаются две необычных судьбы. Нора уже давно живет в пустыне с мужем и сыновьями и знает об этом суровом крае практически все. Она обладает недюжинной волей и энергией и испугать ее непросто. Однако по стечению обстоятельств она осталась в доме почти без воды с Тоби, ее младшим ребенком.

В сборник вошли рассказы разных лет и жанров. Одни проросли из воспоминаний и дневниковых записей. Другие — проявленные негативы под названием «Жизнь других». Третьи пришли из ниоткуда, прилетели и плюхнулись на листы, как вернувшиеся домой перелетные птицы. Часть рассказов — горькие таблетки, лучше, принимать по одной. Рассказы сборника, как страницы фотоальбома поведают о детстве, взрослении и дружбе, путешествиях и море, испытаниях и потерях. О вере, надежде и о любви во всех ее проявлениях.

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

Некий писатель пытается воссоздать последний день жизни Самуэля – молодого человека, внезапно погибшего (покончившего с собой?) в автокатастрофе. В рассказах друзей, любимой девушки, родственников и соседей вырисовываются разные грани его личности: любящий внук, бюрократ поневоле, преданный друг, нелепый позер, влюбленный, готовый на все ради своей девушки… Что же остается от всех наших мимолетных воспоминаний? И что скрывается за тем, чего мы не помним? Это роман о любви и дружбе, предательстве и насилии, горе от потери близкого человека и одиночестве, о быстротечности времени и свойствах нашей памяти. Юнас Хассен Кемири (р.