Гассенди - [48]
Правомерно ли определять отношение Гассенди к религии как фидеизм? Нет, если фидеистами называть «тех, кто ставит веру над разумом» (3, т. 18, стр. 271). Да, если ими называть тех, кто отказывается ставить разум на службу вере. Ведь именно их имело в виду осуждение фидеизма Ватиканом. Фидеизм Агриппы Неттесхеймского, проповедуемый им в трактате «О недостоверности и суетности наук и искусств» (1527), или Паскаля, обрушившегося вопреки собственным научным достижениям на бессилие человеческого разума, коренным образом отличен от умонастроения Гассенди, ставившего своей задачей отгородить философию от богословия. В данном вопросе Рошо прав, говоря, что «это не просто обновленный фидеизм, так как он основывается на новом факте: появлении доказательной науки» (63, стр. 310), не подчиняющейся у Гассенди религии и не обслуживающей ее, а лишь сдерживаемой, парализуемой «истинами веры».
Перед учением о двойственной истине неизбежно встает вопрос о том, где пролегает демаркационная линия между обоими родами истины, «делающая возможным, под видом фидеизма, сосуществование религиозной ортодоксии с материалистической наукой» (29, стр. 235). Ответ Гассенди на этот вопрос ясен и недвусмыслен: «Задача Священного писания не в том, чтобы сделать людей физиками или математиками, а в том, чтобы они стали набожными и религиозными… Оно говорит о вещах общедоступно, так, как они обычно представляются людьми, ибо для того, чтобы каждый мог достигнуть спасения, каждый должен их понять…» (4, т. I, стр. 629, 630). Это разграничение науки и религии тем более показательно, что оно приведено в главе «Что сторонники Коперника отвечают на возражения, извлеченные из Священного писания».
Учение Гассенди о двойственной истине — это проект соглашения о взаимном невмешательстве науки и религии во внутренние дела другой стороны, проект пакта о ненападении между философией и теологией на условиях сохранения свободы ученого и соблюдения покорности верующего.
Какой урок должны были извлечь из всего этого ученики Гассенди? «Изжив бога из храма разума в уголок, богадельню, asylum ignorantiae (убежище невежества) сердца… люди стали при свете дня, так сказать, в открытом деловом кругу рассудка, т. е. в голове, атеистами, а в сердце, во мраке ночи, частным образом, за спиной разума самыми суеверными христианами…» (25, т. 1, стр. 174, 175).
Бесспорно, сам Гассенди (в отличие от некоторых своих учеников[15]) не был атеистом, как не были атеистами ни Бэкон, ни Гоббс. Если не по форме, то по существу своих религиозных воззрений он был близок скорее к деизму. Тот минимум религиозных догм, которые оставляет в неприкосновенности двойственная истина Гассенди, не противоречит пяти основным принципам осужденной Ватиканом «естественной религии» отца английского деизма Герберта Чербери.
Первая жертва, приносимая философией Гассенди на алтарь религии, — сотворение мира богом. Это верование находится в явном противоречии с основоположением всей физики Гассенди, согласно которому ничто не происходит из ничего. Он не скрывает, что вера и знание вступают здесь в неразрешимое противоречие. Познанию непостижимо, как могло быть что бы то ни было создано из ничего: без материала, без орудий, без причины. Да если для бога возможно и невозможное, остается неведомым, зачем он создал мир, что побудило его к этому? Но пути господни неисповедимы. Нашему познанию доступно лишь естественное, по отношению к которому принцип «ничто не может возникнуть из ничего» непреложен, но не сверхъестественное, непроницаемое для нашего познания. Аксиомы физики должны распространяться только на естественные силы, но не на всемогущество творца. В этом вопросе Гассенди, в соответствии с требованиями учения о двойственной истине, вынужден идти к отступлению от эпикуреизма.
Однако от признания сотворения богом пространства и времени, не состоящих из атомов, Гассенди воздерживается. Поскольку первоэлементы материального мира сотворены богом как самодвижущиеся, для понимания их дальнейшего существования нет необходимости в боге. Все последующие изменения и преобразования — естественный результат их самодвижения и взаимодействия. «Нам, — по словам Гассенди, — не следует впредь искать других первичных, коренных причин того, что совершается, помимо тех же самых атомов, поскольку они одарены той энергией (vigor), благодаря которой они движутся или постоянно стремятся к движению» (5, т. 1, стр. 165). Первопричина уходит на покой, уступая место действующим причинам, доступным научному познанию. Отдав дань уважения творцу, Гассенди предоставляет миру возможность развиваться без его помощи и содействия. «…Бог является тою первопричиной, которая затем естествоиспытателя нисколько не касается» (17, т. 1, стр. 133). Никогда для объяснения каких бы то ни было процессов природы Гассенди не обращается к божьей помощи — не апеллирует к сверхъестественному. «Бог Гассенди, наделив материю движущей силой, может спокойно уйти со сцены» (50, стр. 191).
Автономия «вторичных причин» закрепляется решением вопроса о соотношении необходимости и случайности. Вначале «случайные» движения со временем приобретают систематичность, следуют одно за другим с определенной закономерностью, в результате чего «природа как бы стала постепенно проникаться наукой о необходимости» (5, т. 1, стр. 224). Отсюда следует, что незнание нами причин того или другого явления природы отнюдь не свидетельствует об их случайности, а обусловлено тем, что закономерность их нами еще не познана. Убеждение в естественной закономерности побуждает Гассенди (независимо от всяких религиозных соображений) отказаться от свободного «отклонения» (clinamen) атомов Эпикура, введенного им в отличие от атомизма Демокрита.
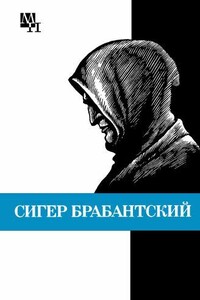
Сигер Брабантский (1240–1281/84) — один из наиболее значительных прогрессивных философов средневековья, смело выступивший против ортодоксальной схоластики. Книга дает представление об учении Сигера, его непримиримой борьбе с теологами, трагической судьбе философа и его наследия.
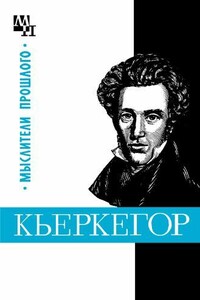
В книге впервые в советской историко-философской литературе дается систематический анализ философских взглядов С. Кьеркегора — предшественника экзистенциализма, философского учения, Широко распространенного в современном буржуазном обществе.Автор показывает специфику субъективного идеализма Кьеркегора. В книге критически рассматриваются основные категории экзистенциализма в том виде, как они выступают у Кьеркегора; прослеживается влияние идей Кьеркегора на современную буржуазную философию.
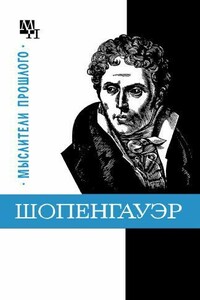
Работа представляет собой критический анализ системы одного на своеобразнейших философов XIX в., Артура Шопенгауэра. Автор рассматривает важнейшие аспекты философии Шопенгауэра — его теорию мира как воли, гносеологию, этику, эстетику, а также место воззрений Шопенгауэра в современной буржуазной философии.
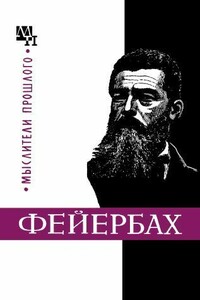
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
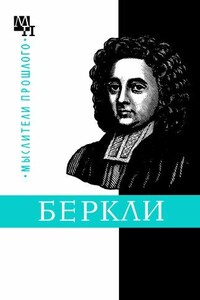
Критический анализ философии Дж. Беркли имеет большое актуальное значение в связи с тем, что его идеи до сих пор широко используются идеалистической философией. В книге дается краткий очерк жизни и всестороннее исследование воззрений философа.Книга рассчитана на преподавателей, студентов, на всех интересующихся философией.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Что такое событие?» — этот вопрос не так прост, каким кажется. Событие есть то, что «случается», что нельзя спланировать, предсказать, заранее оценить; то, что не укладывается в голову, застает врасплох, сколько ни готовься к нему. Событие является своего рода революцией, разрывающей историю, будь то история страны, история частной жизни или же история смысла. Событие не есть «что-то» определенное, оно не укладывается в категории времени, места, возможности, и тем важнее понять, что же это такое. Тема «события» становится одной из центральных тем в континентальной философии XX–XXI века, века, столь богатого событиями. Книга «Авантюра времени» одного из ведущих современных французских философов-феноменологов Клода Романо — своеобразное введение в его философию, которую сам автор называет «феноменологией события».

В книге, название которой заимствовано у Аристотеля, представлен оригинальный анализ фигуры животного в философской традиции. Животность и феномены, к ней приравненные или с ней соприкасающиеся (такие, например, как бедность или безумие), служат в нашей культуре своего рода двойником или негативной моделью, сравнивая себя с которой человек определяет свою природу и сущность. Перед нами опыт не столько даже философской зоологии, сколько философской антропологии, отличающейся от классических антропологических и по умолчанию антропоцентричных учений тем, что обращается не к центру, в который помещает себя человек, уверенный в собственной исключительности, но к периферии и границам человеческого.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Книга содержит три тома: «I — Материализм и диалектический метод», «II — Исторический материализм» и «III — Теория познания».Даёт неплохой базовый курс марксистской философии. Особенно интересена тем, что написана для иностранного, т. е. живущего в капиталистическом обществе читателя — тем самым является незаменимым на сегодняшний день пособием и для российского читателя.Источник книги находится по адресу https://priboy.online/dists/58b3315d4df2bf2eab5030f3Книга ёфицирована. О найденных ошибках, опечатках и прочие замечания сообщайте на [email protected].

Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И какой возможен выход из него? На эти вопросы и пытается ответить данная работа доктора философских наук, профессора И.В.Малышева, ориентированная на специалистов: эстетиков, философов, культурологов.

В книге рассматриваются жизненный путь и сочинения выдающегося английского материалиста XVII в. Томаса Гоббса.Автор знакомит с философской системой Гоббса и его социально-политическими взглядами, отмечает большой вклад мыслителя в критику религиозно-идеалистического мировоззрения.В приложении впервые на русском языке даются извлечения из произведения Гоббса «Бегемот».

Н. Милеску Спафарий (1635–1708) — дипломат, мыслитель, ученый, крупнейший представитель молдавской и русской культуры второй половины XVII — начала XVIII в. Его трудами было положено начало развитию в Молдавии философии как самостоятельной науки.В книге рассматривается жизненный и творческий путь мыслителя, его философские взгляды, а также его дипломатическая деятельность.

Книга посвящена одному из крупнейших мыслителей второй половины XVIII — начала XIX века. Особое внимание в ней уделяется творческой биографии мыслителя. Философское и естественнонаучное мировоззрение Гёте представлено на фоне духовного развития Европы Нового времени.Для широкого круга читателей.

Книга посвящена жизни и творчеству великого арабского мыслителя XIV - начала XV в. Ибн-Хальдуна, предпринявшего попытку объяснить развитие общества материальными условиями жизни людей. В ней рассматриваются и общефилософские, экономические и социально-политические взгляды философа. Особое внимание уделено его концепции государства. Книга предназначается всем интересующимся историей философии и социально-политической мысли.