Фуко - [4]
Это фактическое заявление Фуко о "смерти субъекта" нельзя рассматривать, естественно, с точки зрения буквального истолкования данного понятия, поскольку некритичное его понимание значительно обедняет, если вообще не исключает тот "теоретический позитив", что в нем содержится. Не следует забывать, что эта концепция была полемически направлена против представления о своевольном, "своевластном" индивиде "буржуазного сознания" — простветительской, романтической и позитивистской иллюзии, игнорировавшей реальную зависимость человека от социальных — материальных и духовных — условий его существования и от той суммы представлений — т. е. от идеологии, — в которую эти условия жизни облекались. В чисто философском плане подобные представления «профана» воплощались в виде спекулятивного конструкта "трансцендентального субъекта", который и стал предметом ожесточенной критики Фуко в первую очередь.
Но есть, очевидно, и неизбежная закономерность в том, что всякие рассуждения о "смерти субъекта" имеют свой "теоретический предел", за которым они становятся бессмысленными. Иначе говоря, для Фуко с течением времени становилось все более очевидным, что чрезмерный акцент на сверхдетерминированности человека и его сознания фактически снимает и сам вопрос о человеке. Собственно, поиски теоретического пространства для "свободной" деятельности субъекта и стали основным содержанием последнего периода его творчества. Конкретно это привело к попыткам выявить различные технологии субъективации.
Здесь, очевидно, и начинается самый ощутимый водораздел между взглядами обоих философов. Делёз во многом сохранил прежние представления; субъективация для него — "это порождение модусов существования или стилей жизни… Несомненно, как только порождается субъективность, как только она становится "модусом", возникает необходимость в большой осторожности при обращении с этим словом. Фуко говорит: "искусство быть самим собой, которое будет полной противоположностью самого себя…" Если и есть субъект, то это субъект без личности. Субъективация как процесс — это индивидуация, личная или коллективная, сводимая к одному или нескольким. Следовательно, существует много типов индивидуации. Существуют индивидуации типа "субъект" (это ты… это я…), но существуют также индивидуации типа события, без субъекта: ветер, атмосфера, время суток, сражение…"[16].
Так говорил Делёз в год выхода книги о Фуко, но и в 1990 г. в интервью с Тони Негри он повторил то же самое: "Нет никакого возврата к "субъекту", т. е. к инстанции, наделенной обязанностями, властью и знанием"[17].
Этой позицией объясняется и специфическое употребление Делёзом понятия "себя": в его трактовке они — именно во множественном числе — оказались гипостазированными инстанциями процесса субъективизации, психическими или ментальными, теми техниками самовоспитания, которые человек примеривает к себе как маски, и сама множественность которых постулируется как обязательное условие процесса субъективации.
Фактически такому же переосмыслению подвергаются и все остальные понятия, с которыми работал Фуко: они гипостазируются и реинфицируются и обретают, тем самым, явственный налет метафизических сущностей, живущих самостоятельной жизнью по своим собственным законам, получают тот статус, которого не имели в системе Фуко.
Фуко, несомненно, занимала проблема соотношения внешнего и внутреннего. Как справедливо отмечает С. Табачникова, главной задачей философа в этой области было ниспровержение традиционного подхода академической науки, "постоянного возвращения от внешнего — к внутреннему, к некоторому "сущностному ядру", т. е. задача "проделывать в обратном направлении работу выражения", раскрывая в сказанном скрытое там "тайное и глубинное" и тем самым "высвобождая ядро основополагающей субъективности""[18]. Этому Фуко противопоставлял "правило внешнего: идти не от дискурса к его внутреннему и скрытому ядру… но, беря за исходную точку сам дискурс… идти к внешним условиям его возможности, к тому, что дает место для случайной серии этих событий и что фиксирует их границы"[19]. Однако Фуко, разумеется, и представить себе не мог, насколько далеко способен будет зайти Делёз в чисто игровом жонглировании этими понятиями, как и метафорическим образом "складки".
Надо сказать, что введенное Делёзом метафизическое понятие "складки" (изгиба, искривления пространства) как символического обозначения материального и духовного пространства уже спорадически встречалось в философии XX века. В свое время идею складки пытался обосновать М. Мерло-Понти в "Феноменологии восприятия"; с помощью этого же понятия Хайдеггер описывал Dasein в "Фундаментальных проблемах феноменологии". Деррида ссылался на метафизическую "складку" в эссе о Малларме[20].
Любопытна интерпретация, которую попыталась дать этому понятию Кармен Видаль в статье "Смерть политики и секса в шоу 80-годов". По ее мнению, в самом общем виде смысл этих рассуждении о складке заключается в том, что материя сама по себе движется не по кривой, а по касательной, образуя бесконечно пористую и изобилующую пустотами текстуру, без какого-либо пробела, где всегда "каверна внутри каверны, мир, устроенный подобно пчелиному улью, с неправильными проходами, в которых процесс свертывания-завертывания уже больше не означает просто сжатия-расжатия, сокращения-расширения, а скорее деградации-развития". "Складка, утверждает Кармен Видаль, — всегда находится "между" двумя другими складками, в том месте, где касательная встречается с кривой… она не соотносится ни с какой координатой (здесь нет ни верха, ни низа, ни справа, ни слева), но всегда "между", всегда "и то и другое".

«Анти-Эдип» — первая книга из дилогии авторов «Капитализм и шизофрения» — ключевая работа не только для самого Ж. Делёза, последнего великого философа, но и для всей философии второй половины XX — начала нынешнего века. Это последнее философское сочинение, которое можно поставить в один ряд с «Метафизикой» Аристотеля, «Государством» Платона, «Суммой теологии» Ф. Аквинского, «Рассуждениями о методе» Р. Декарта, «Критикой чистого разума» И. Канта, «Феноменологией духа» Г. В. Ф. Гегеля, «Так говорил Заратустра» Ф. Ницше, «Бытием и временем» М.

Совместная книга двух выдающихся французских мыслителей — философа Жиля Делеза (1925–1995) и психоаналитика Феликса Гваттари (1930–1992) — посвящена одной из самых сложных и вместе с тем традиционных для философского исследования тем: что такое философия? Модель философии, которую предлагают авторы, отдает предпочтение имманентности и пространству перед трансцендентностью и временем. Философия — творчество — концептов" — работает в "плане имманенции" и этим отличается, в частности, от "мудростии религии, апеллирующих к трансцендентным реальностям.
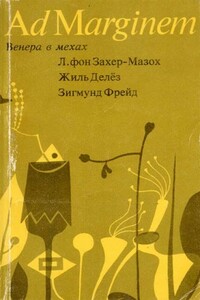
Скандально известный роман австрийского писателя Леопольда фон Захер-Мазоха (1836–1895) «Венера в мехах» знаменит не столько своими литературными достоинствами, сколько именем автора, от которого получила свое название сексопатологическая практика мазохизма.Психологический и философский смысл этого явления раскрывается в исследовании современного французского мыслителя Жиля Делёза (род. 1925) «Представление Захер-Мазоха», а также в работах основоположника психоанализа Зигмунда Фрейда (1856–1939), русский перевод которых впервые публикуется в настоящем издании.
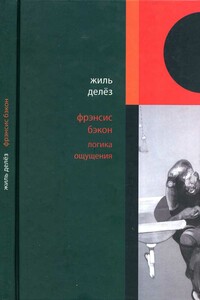
«Логика ощущения»—единственное специальное обращение Жиля Делёза к изобразительному искусству. Детально разбирая произведения выдающегося английского живописца Фрэнсиса Бэкона (1909-1992), автор подвергает испытанию на художественном материале основные понятия своей философии и вместе с тем предлагает оригинальный взгляд на историю живописи. Для философов, искусствоведов, а также для всех, интересующихся культурой и искусством XX века.
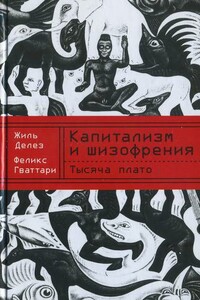
Второй том «Капитализма и шизофрении» — не простое продолжение «Анти-Эдипа». Это целая сеть разнообразных, перекликающихся друг с другом плато, каждая точка которых потенциально связывается с любой другой, — ризома. Это различные пространства, рифленые и гладкие, по которым разбегаются в разные стороны линии ускользания, задающие новый стиль философствования. Это книга не просто провозглашает множественное, но стремится его воплотить, начиная всегда с середины, постоянно разгоняясь и размывая внешнее. Это текст, призванный запустить процесс мысли, отвергающий жесткие модели и протекающий сквозь неточные выражения ради строгого смысла…

В книге трактуются вопросы метафизического мировоззрения Достоевского и его героев. На языке почвеннической концепции «непосредственного познания» автор книги идет по всем ярусам художественно-эстетических и созерцательно-умозрительных конструкций Достоевского: онтология и гносеология; теология, этика и философия человека; диалогическое общение и метафизика Другого; философия истории и литературная урбанистика; эстетика творчества и философия поступка. Особое место в книге занимает развертывание проблем: «воспитание Достоевским нового читателя»; «диалог столиц Отечества»; «жертвенная этика, оправдание, искупление и спасение человеков», «христология и эсхатология последнего исторического дня».

Книга посвящена философским проблемам, содержанию и эффекту современной неклассической науки и ее значению для оптимистического взгляда в будущее, для научных, научно-технических и технико-экономических прогнозов.

Основную часть тома составляют «Проблемы социологии знания» (1924–1926) – главная философско-социологическая работа «позднего» Макса Шелера, признанного основателя и классика немецкой «социологии знания». Отвергая проект социологии О. Конта, Шелер предпринимает героическую попытку начать социологию «с начала» – в противовес позитивизму как «специфической для Западной Европы идеологии позднего индустриализма». Основу учения Шелера образует его социально-философская доктрина о трех родах человеческого знания, ядром которой является философско-антропологическая концепция научного (позитивного) знания, определяющая особый статус и значимость его среди других видов знания, а также место и роль науки в культуре и современном обществе.Философско-историческое измерение «социологии знания» М.

«История западной философии» – самый известный, фундаментальный труд Б. Рассела.Впервые опубликованная в 1945 году, эта книга представляет собой всеобъемлющее исследование развития западноевропейской философской мысли – от возникновения греческой цивилизации до 20-х годов двадцатого столетия. Альберт Эйнштейн назвал ее «работой высшей педагогической ценности, стоящей над конфликтами групп и мнений».Классическая Эллада и Рим, католические «отцы церкви», великие схоласты, гуманисты Возрождения и гениальные философы Нового Времени – в монументальном труде Рассела находится место им всем, а последняя глава книги посвящена его собственной теории поэтического анализа.

Монография посвящена одной из ключевых проблем глобализации – нарастающей этнокультурной фрагментации общества, идущей на фоне системного кризиса современных наций. Для объяснения этого явления предложена концепция этно– и нациогенеза, обосновывающая исторически длительное сосуществование этноса и нации, понимаемых как онтологически различные общности, в которых индивид участвует одновременно. Нация и этнос сосуществуют с момента возникновения ранних государств, отличаются механизмами социогенеза, динамикой развития и связаны с различными для нации и этноса сферами бытия.

Воспоминания известного ученого и философа В. В. Налимова, автора оригинальной философской концепции, изложенной, в частности, в книгах «Вероятностная модель языка» (1979) и «Спонтанность сознания» (1989), почти полностью охватывают XX столетие. На примере одной семьи раскрывается панорама русской жизни в предреволюционный, революционный, постреволюционный периоды. Лейтмотив книги — сопротивление насилию, борьба за право оставаться самим собой.Судьба открыла В. В. Налимову дорогу как в науку, так и в мировоззренческий эзотеризм.