Фуко - [2]
При чтении текстов большинства современных французских философов новейшей ориентации приходится всегда учитывать один существенный фактор, касающийся самой специфики их мышления, то, что впоследствии получило название "поэтического мышления", или, иначе, "метафорической эссеистики". Она изначально чужда установке на терминологическую четкость, на логически выверенную строгость понятийного аппарата.
Сама традиция "поэтического мышления" как способа философствования по ту сторону "буржуазного духа рационализма", вскрытого Максом Вебером, — любовь к парадоксу, интуитивизм, техника намека, раскрытие мысли при помощи поэтически метафорической ассоциативности — уходит своими корнями в глубокую древность, к самому зарождению античной философии, к платоновским диалогам и диалогам восточной дидактики в том виде, в каком они до сих пор существуют в индуизме, буддизме и в чаньских текстах, где раскрытие смысла понятия (например, в дзэновских диалогах-"коанах") достигается поэтически ассоциативным путем.
Возрождение этой традиции в XX веке связано в первую очередь с новым открытием Ницше, а также с поздним Хайдеггером. В рамках французской философской традиции второй половины нашего столетия огромную роль в развитии такого способа философствования сыграл Морис Бланшо, а в несколько меньшей степени также и Жорж Батай, как и вообще расцвет во Франции этого столетия философской и политико-публицистической эссеистики. Самыми известными продолжателями этой традиции стали Лакан, Деррида, Фуко, Барт, Кристева, тот же Делёз.
Во всяком случае эта особенность четко укладывается в русло той "французской неоницшеанской (хайдеггеровской) маллармеанской стилистической традиции Бланшо, Батая, Фуко, Дерриды и др."[5], которую Джеймс Уиндерс считает основополагающей чертой постструктуралистского теоретизирования.
Мы не поймем специфики мышления Делёза, своеобразия его философствования и экзистенциальной позиции (впрочем, скорее, с точки зрения привычных академических представлений о том, кем должен быть философ и как ему следует себя вести) вне общего духа эпатажа, которым проникнута вся авангардистская теоретическая мысль со всеми сопутствующими биологически-натуралистическими ассоциациями: "Писать — это значит быть одним из потоков, не обладающим никакой привилегией по отношению к другим, сливающимся с другими в общее течение, либо образующим противотечение или водоворот, исток дерьма, спермы, слов, действия, эротизма, денег, политики и т. д."[6].
Делёз не скрывает своего пристрастия к антирационалистической традиции истории философии, его привлекают авторы, которые противостоят рационалистической традиции этой истории, и для него между Лукрецием, Юмом, Спинозой и Ницше существует тайная связь, образованная критикой негатива, культурой радости, ненавистью к внутреннему, внешним характером сил и отношений, разоблачением власти… и т. д.; как он говорит, он больше всего "ненавидел гегельянство и диалектику"[7]. Делёз сожалеет, что в его первых книгах было еще слишком много "университетского аппарата", т. е. традиционного понятийного аппарата, того состояния научности, из которого его вывел Ницше.
В значительной степени тот же импульс характерен и для Фуко. Как пишет С. Табачникова, "Фуко не раз говорил, что его книги не содержат готового метода — ни для него, ни для других, и не являются систематическим учением; что для него "написать книгу — это в некотором роде уничтожить предыдущую"; что он не мог бы писать, если бы должен был просто высказать то, что он уже думает, и что он пишет как раз потому, что не знает, как именно думать, и что по ходу написания книги что-то меняется — меняется не только понимание им какого-то вопроса, но и сама его постановка…"[8]. Очевидно, с еще большим основанием это можно сказать и о Делёзе. Чем объясняется эта странная на первый взгляд позиция? Опасением быть "институализованным", "загнанным в угол" — всем, чем угодно: собственным авторитетом и популярностью, общим признанием, классификациями, дефинициями и определениями, налагаемыми на тебя твоими толкователями, опасностью чрезмерного влияния и неадекватной интерпретации и вообще страшной судьбой твоей собственной идеи, оказавшейся на улице, в толпе, и способной превратиться в лозунг для выражения настроений и интересов, совершенно чуждых первоначальным замыслам.
Об этом очень хорошо сказала С. Табачникова, характеризуя "странности" Фуко: "Первое, что обращает на себя внимание, это своего рода "страсть к разотождествлению" — стремление во что бы то ни стало избежать отождествления с кем бы то ни было и с чем бы то ни было, даже с самим собой и со своей собственной мыслью"[9].
Эта проблема беспокоила Ж. Дерриду, когда он предостерегал от опасности "институциональной замкнутости" при его рецепции в США Йельской школы деконструкции. Для Фуко эта проблема возникла после того, как его книга "Слова и вещи" (1966)[10] приобрела популярность, редкую для работы философского характера. Ту же обеспокоенность ощутили Делёз с Гваттари после выхода в 1972 г. "Анти-Эдипа", воспринятого как непосредственный отклик на майские события 1968 г. и в условиях продолжавшегося молодежного движения приобретшего политико-лозунговый характер.

«Анти-Эдип» — первая книга из дилогии авторов «Капитализм и шизофрения» — ключевая работа не только для самого Ж. Делёза, последнего великого философа, но и для всей философии второй половины XX — начала нынешнего века. Это последнее философское сочинение, которое можно поставить в один ряд с «Метафизикой» Аристотеля, «Государством» Платона, «Суммой теологии» Ф. Аквинского, «Рассуждениями о методе» Р. Декарта, «Критикой чистого разума» И. Канта, «Феноменологией духа» Г. В. Ф. Гегеля, «Так говорил Заратустра» Ф. Ницше, «Бытием и временем» М.

Совместная книга двух выдающихся французских мыслителей — философа Жиля Делеза (1925–1995) и психоаналитика Феликса Гваттари (1930–1992) — посвящена одной из самых сложных и вместе с тем традиционных для философского исследования тем: что такое философия? Модель философии, которую предлагают авторы, отдает предпочтение имманентности и пространству перед трансцендентностью и временем. Философия — творчество — концептов" — работает в "плане имманенции" и этим отличается, в частности, от "мудростии религии, апеллирующих к трансцендентным реальностям.
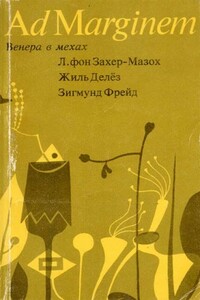
Скандально известный роман австрийского писателя Леопольда фон Захер-Мазоха (1836–1895) «Венера в мехах» знаменит не столько своими литературными достоинствами, сколько именем автора, от которого получила свое название сексопатологическая практика мазохизма.Психологический и философский смысл этого явления раскрывается в исследовании современного французского мыслителя Жиля Делёза (род. 1925) «Представление Захер-Мазоха», а также в работах основоположника психоанализа Зигмунда Фрейда (1856–1939), русский перевод которых впервые публикуется в настоящем издании.
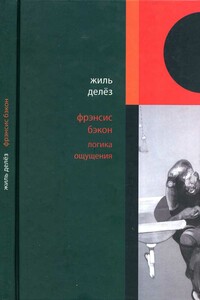
«Логика ощущения»—единственное специальное обращение Жиля Делёза к изобразительному искусству. Детально разбирая произведения выдающегося английского живописца Фрэнсиса Бэкона (1909-1992), автор подвергает испытанию на художественном материале основные понятия своей философии и вместе с тем предлагает оригинальный взгляд на историю живописи. Для философов, искусствоведов, а также для всех, интересующихся культурой и искусством XX века.
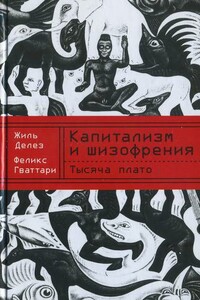
Второй том «Капитализма и шизофрении» — не простое продолжение «Анти-Эдипа». Это целая сеть разнообразных, перекликающихся друг с другом плато, каждая точка которых потенциально связывается с любой другой, — ризома. Это различные пространства, рифленые и гладкие, по которым разбегаются в разные стороны линии ускользания, задающие новый стиль философствования. Это книга не просто провозглашает множественное, но стремится его воплотить, начиная всегда с середины, постоянно разгоняясь и размывая внешнее. Это текст, призванный запустить процесс мысли, отвергающий жесткие модели и протекающий сквозь неточные выражения ради строгого смысла…

Основную часть тома составляют «Проблемы социологии знания» (1924–1926) – главная философско-социологическая работа «позднего» Макса Шелера, признанного основателя и классика немецкой «социологии знания». Отвергая проект социологии О. Конта, Шелер предпринимает героическую попытку начать социологию «с начала» – в противовес позитивизму как «специфической для Западной Европы идеологии позднего индустриализма». Основу учения Шелера образует его социально-философская доктрина о трех родах человеческого знания, ядром которой является философско-антропологическая концепция научного (позитивного) знания, определяющая особый статус и значимость его среди других видов знания, а также место и роль науки в культуре и современном обществе.Философско-историческое измерение «социологии знания» М.

«История западной философии» – самый известный, фундаментальный труд Б. Рассела.Впервые опубликованная в 1945 году, эта книга представляет собой всеобъемлющее исследование развития западноевропейской философской мысли – от возникновения греческой цивилизации до 20-х годов двадцатого столетия. Альберт Эйнштейн назвал ее «работой высшей педагогической ценности, стоящей над конфликтами групп и мнений».Классическая Эллада и Рим, католические «отцы церкви», великие схоласты, гуманисты Возрождения и гениальные философы Нового Времени – в монументальном труде Рассела находится место им всем, а последняя глава книги посвящена его собственной теории поэтического анализа.

Монография посвящена одной из ключевых проблем глобализации – нарастающей этнокультурной фрагментации общества, идущей на фоне системного кризиса современных наций. Для объяснения этого явления предложена концепция этно– и нациогенеза, обосновывающая исторически длительное сосуществование этноса и нации, понимаемых как онтологически различные общности, в которых индивид участвует одновременно. Нация и этнос сосуществуют с момента возникновения ранних государств, отличаются механизмами социогенеза, динамикой развития и связаны с различными для нации и этноса сферами бытия.

Воспоминания известного ученого и философа В. В. Налимова, автора оригинальной философской концепции, изложенной, в частности, в книгах «Вероятностная модель языка» (1979) и «Спонтанность сознания» (1989), почти полностью охватывают XX столетие. На примере одной семьи раскрывается панорама русской жизни в предреволюционный, революционный, постреволюционный периоды. Лейтмотив книги — сопротивление насилию, борьба за право оставаться самим собой.Судьба открыла В. В. Налимову дорогу как в науку, так и в мировоззренческий эзотеризм.

Книга представляет читателю великого итальянского поэта Данте Алигьери (1265–1321) как глубокого и оригинального мыслителя. В ней рассматриваются основные аспекты его философии: концепция личности, философия любви, космология, психология, социально-политические взгляды. Особое внимание уделено духовной атмосфере зрелого средневековья.Для широкого круга читателей.

Книга дает характеристику творчества и жизненного пути Томаса Пейна — замечательного американского философа-просветителя, участника американской и французской революций конца XVIII в., борца за социальную справедливость. В приложении даются отрывки из важнейших произведений Т. Пейна.