Фуко - [14]
Новый картограф
("Надзирать и наказывать")
''Творчество Фуко никогда не было для него — L самоцелью. Именно это и делает его большим писателем, наполняя все более очевидным смехом то, о чем он пишет. Божественная комедия наказаний — это просто какое-то элементарное право созерцать, как в гипнотическом сне, не в силах порой удержаться от безумного смеха при виде такого количества извращенных изобретений, продуманных до мелочей мерзостей и циничных дискурсов. От антимастурбационных устройств для детей до тюремных механизмов для взрослых развертывается целая цепь, возбуждающая неожиданный смех, который вдруг останавливают стыд, картины страдания или смерти. Палачи смеются редко, да и смех у них не такой, как у всех. Уже Валлес описывал свойственное революционерам ощущение веселья среди ужаса, которое противостояло ужасному веселью палачей. Нужно только, чтобы ненависть была достаточно живой, чтобы из нее можно было что-то извлечь: великую, лишенную двусмысленности радость, не радость ненависти, а радость от желания разрушить то, что калечит жизнь. Книга Фуко наполнена радостью и ликованием, сливающимся с блеском стиля и изысканной организацией содержания. Она ритмизована жестокими описаниями, сделанными с любовью: великая пытка Дамьена [05] и его бедолаг; город, разделенный во время чумы на охранные участки; вереница каторжников, идущих через город и обменивающихся репликами с народом; а потом, совсем наоборот, новая изолирующая машина, тюрьма, тюремный экипаж или автомобиль, свидетельствующие об иной "чувствительности в искусстве наказания". Фуко и раньше умел писать изумительные картины на фоне своих анализов. Здесь же анализ делается все более микрофизическим, а картины — все более физическими, отражая "результаты" анализа не в смысле причинно-следственной связи, а в смысле оптическом, световом, цветовом: от красного на красном фоне при изображении пыток до серого на сером фоне тюрьмы. Анализ и картина идут рука об руку: микрофизика власти и политическое функционирование тела. Цветные картинки на миллиметровой бумаге. Эту книгу можно читать и как продолжение предыдущих книг Фуко, и как нечто новое, знаменующее собой решительный шаг вдеред.
То, что смутно или даже хаотично характеризовало гошизм, теоретически представляет собой новую постановку вопроса о власти, направленную как против марксизма, так и против буржуазных концепций, а практически — это была определенная форма локальной, специфической борьбы, в которой взаимосвязи и необходимое единство уже больше не могли основываться на процессах тотализации или централизации, а основывались, по словам Гваттари, на некоей трансверсальности. Оба эти аспекта, и практический, и теоретический, были тесно связаны между собой. Однако гошизм все же продолжает сохранять и вбирать в себя определенные весьма обобщенные элементы марксизма, чтобы снова погрязнуть в последнем, например, восстанавливая групповую централизацию и в результате возвращаясь к прежней практике, в том числе и к сталинизму. Возможно, функционировавшая с 1971 по 1973 гг. ГИТ (Группа информации по тюрьмам), получила импульс от Фуко и Дефера, как группа, которая сумела избежать этих рецидивов, благодаря оригинальному типу взаимосвязей между борьбой в тюрьмах и прочими видами борьбы. А когда в 1975 году Фуко снова вернулся к теоретическим публикациям, то, по нашему мнению, он стал автором той новой концепции власти, которую искали многие, но не смогли ни обнаружить, ни сформулировать.
Именно об этом идет речь в "Надзирать и наказывать", хотя сам Фуко говорит об этом только на нескольких страницах, в самом начале книги. Всего на нескольких страницах, потому что он пользуется методом, не имеющим ничего общего с методом "тезисов". Он довольствуется тем, что предлагает отказаться от некоторых постулатов, прежде характеризовавших традиционную позицию левых [06]. А для более подробного изложения этой проблемы пришлось ждать выхода "Воли к знанию".
Постулат собственности: власть считалась "собственностью" того класса, который ее завоевал. Фуко же доказывает, что власть осуществляется не так и находится не тут: она является не столько собственностью, сколько стратегией, а ее действенность зависит не от присвоения, "а от расположения, от маневров, от тактики, от техники, от функционирования"; "она — не столько владение, сколько действие, и представляет собой не приобретенную или сохраненную привилегию господствующего класса, а следствие совокупности ее стратегических позиций". Этот новый функционализм, этот функциональный анализ, разумеется, не отрицает существования классов и их борьбы, но предлагает совершенно иную картину с другими пейзажами, персонажами и процессами, нежели та, к которой нас приучила традиционная, в том числе и марксистская, история: "неисчислимые пункты противостояния, очаги нестабильности, каждый из которых по своему чреват конфликтами, борьбой и, по меньшей мере, временной инверсией соотношения сил", при отсутствии аналогий и гомологии, при отсутствии однозначности, но при наличии оригинального типа возможной преемственности. Короче говоря, власть не обладает гомогенностью, а определяется единичностями, теми сингулярными точками, которые она пересекает.

«Анти-Эдип» — первая книга из дилогии авторов «Капитализм и шизофрения» — ключевая работа не только для самого Ж. Делёза, последнего великого философа, но и для всей философии второй половины XX — начала нынешнего века. Это последнее философское сочинение, которое можно поставить в один ряд с «Метафизикой» Аристотеля, «Государством» Платона, «Суммой теологии» Ф. Аквинского, «Рассуждениями о методе» Р. Декарта, «Критикой чистого разума» И. Канта, «Феноменологией духа» Г. В. Ф. Гегеля, «Так говорил Заратустра» Ф. Ницше, «Бытием и временем» М.

Совместная книга двух выдающихся французских мыслителей — философа Жиля Делеза (1925–1995) и психоаналитика Феликса Гваттари (1930–1992) — посвящена одной из самых сложных и вместе с тем традиционных для философского исследования тем: что такое философия? Модель философии, которую предлагают авторы, отдает предпочтение имманентности и пространству перед трансцендентностью и временем. Философия — творчество — концептов" — работает в "плане имманенции" и этим отличается, в частности, от "мудростии религии, апеллирующих к трансцендентным реальностям.
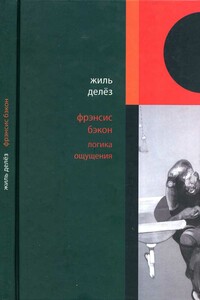
«Логика ощущения»—единственное специальное обращение Жиля Делёза к изобразительному искусству. Детально разбирая произведения выдающегося английского живописца Фрэнсиса Бэкона (1909-1992), автор подвергает испытанию на художественном материале основные понятия своей философии и вместе с тем предлагает оригинальный взгляд на историю живописи. Для философов, искусствоведов, а также для всех, интересующихся культурой и искусством XX века.
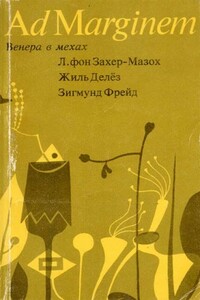
Скандально известный роман австрийского писателя Леопольда фон Захер-Мазоха (1836–1895) «Венера в мехах» знаменит не столько своими литературными достоинствами, сколько именем автора, от которого получила свое название сексопатологическая практика мазохизма.Психологический и философский смысл этого явления раскрывается в исследовании современного французского мыслителя Жиля Делёза (род. 1925) «Представление Захер-Мазоха», а также в работах основоположника психоанализа Зигмунда Фрейда (1856–1939), русский перевод которых впервые публикуется в настоящем издании.
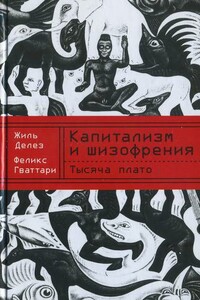
Второй том «Капитализма и шизофрении» — не простое продолжение «Анти-Эдипа». Это целая сеть разнообразных, перекликающихся друг с другом плато, каждая точка которых потенциально связывается с любой другой, — ризома. Это различные пространства, рифленые и гладкие, по которым разбегаются в разные стороны линии ускользания, задающие новый стиль философствования. Это книга не просто провозглашает множественное, но стремится его воплотить, начиная всегда с середины, постоянно разгоняясь и размывая внешнее. Это текст, призванный запустить процесс мысли, отвергающий жесткие модели и протекающий сквозь неточные выражения ради строгого смысла…

Жизнь — это миф между прошлым мифом и будущим. Внутри мифа существует не только человек, но и окружающие его вещи, а также планеты, звезды, галактики и вся вселенная. Все мы находимся во вселенском мифе, созданным творцом. Человек благодаря своему разуму и воображению может творить собственные мифы, но многие из них плохо сочетаются с вселенским мифом. Дисгармоничными мифами насыщено все информационное пространство вокруг современного человека, в результате у людей накапливается множество проблем.

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»: Историко-методологический семинар в РХГАСтенограмма доклада на историко-методологическом семинаре РХГА, С.-Петербург,21 декабря 2007 г. выступил Сергей Сергеевич Хоружий с докладом «Синергийная антропология в контексте русской религиозной философии».Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.