Формализм в живописи - [4]
Естественно, что какое бы то ни было скатывание искусства советской страны на идеалистические (неокантианские, субъективно идеалистические и т. п.) позиции (скатывание это происходит часто объективно, художник несет на себе груз столетних наслоений буржуазной и мелкобуржуазной идеологии), приводит художника прежде всего к отрыву от жизни, от нашей социальной практики, к отрыву от нашей действительности, от великих процессов нашего строительства, обрекает его на пассивную созерцательность (ибо его мировоззрение не дает ему возможности познать процессы этой действительности). Вот это то и стимулирует художника к уходу в замкнутую область «собственно искусства», к получению «творческих раздражений» только от приемов искусства, а не от живой жизни. Это и способствует перепевам своего стандартного, единожды найденного, приема, способствует уходу в призрачное богатство субъективного формотворчества, призванного подменить, фальсифицировать идейное, идеологическое отражение всего многообразия и богатства нашей жизни. Чуждое мировосприятие, бегство от действительности обрекает на формализм.
IV
Когда мы вплотную подходим к рассмотрению творчества формалистов в живописи, мы сталкиваемся с самым причудливым сочетанием черт, о философско-мировоззренческих истоках которых мы говорили выше. Полотна формалистов — это целая гамма живописного выражения идеализма, начиная от его незамаскированного, чистого вида до компромиссного, сочетающегося с вульгарным материализмом в его самом непрезентабельном обличим, трогательно с идеализмом братающимся.
Сделаем попытку кратко обозреть творчество наиболее ярких представителей.
Начнем с романтиков-интуитивистов из бывшего ОСТ. Здесь наиболее характерной фигурой является Тышлер. Трудно себе представить более законченное отрицание реальности мира. Для ухода от этой реальности художником выработан определенный, застывший, не развивающийся, а только мелко варьирующийся, стандарт. В основе этого стандарта прежде всего лежит абсолютная монохромность: основной тон картин Тышлера — нежный, зеленовато-голубой. Вводимые им в свои полотна другие краски (обязательно бледных тонов) поглощаются этой основной. Так, уже начиная с красочной тональности, Тышлер вытравляет многообразие явлений, богатство красочных впечатлений, замыкая их в круг какой-то призрачной, туманной иллюзорности. Это не богатство красок, приведенное в мастерское единство, а субъективистски условная красочная схема.
Такая же схематичность имеет место и по линии композиции большинства его картин, по линии разработки места действия. Обычно это беспредельный луг или просто зеленоватая земля (уточнить трудно). Этот расплывчатый пантеистический момент иногда «осовременивается» и тогда на отдаленном горизонте появляется нечто вроде города-миража в том же тональном разрешении. Этот город-мираж (даже отдаленно не напоминающий в своих очертаниях наш город), опять таки не только совершенно условен, но и единообразен, унифицирован.
Таким образом и красочной гаммой и разработкой своих композиций Тышлер отказывается от изображения и раскрытия вещи (что тратить время на непознаваемое!) и создает единую на все случаи жизни систему символов-знаков, подменяющих реальность вещи сверхинтуитивным чувствованием, только ему, Тышлеру, свойственным. Так подготовляется иллюзорный, фантастико-романтический мир для выражения чувств «персонажей» его картин.
Что же представляет его картина после включения в нее персонажей, людей? Возьмем три его полотна под условными названиями (Тышлер затрудняется называть свои картины, так как это ведь только чувствования, «песни без слов»): «Мать», «Махно» и «Ждут». Я умышленно беру эти три картины, так как их сюжетное наполнение при нормальном образном мышлении дает право отнести их (в названном порядке) к лирике, истории и быту.
«Мать». Пейзаж — описанный выше стандарт с миражом города на горизонте. На переднем плане фигура идущей женщины, на голове у которой две, поставленные одна на другую, люльки с младенцами. Очевидно, этот головоломный трюк призван выразить любовную осторожность материнства. В картине полное отсутствие какой бы то ни было социальной опосредствованности. Отрицание реальности заходит так далеко, что в этом произведении (как и во всех прочих) отсутствует и какая бы то ни была психологическая разработка. Только символ, знак, субъективистски выдуманный, намекает на общечеловеческий смысл сюжета (если вообще допустимо в данном случае говорить о «смысле» и о «сюжете»).
«Махно». Стандартный пейзаж без города на горизонте. На переднем плане дерево, рядом с ним лошадь… в дамской шляпе. К дереву и к хвосту лошади привязан гамак, в котором спит Махно. Вокруг него несколько условно разрешенных человеческих фигур. Недоумевающий зритель выводит, вполне картиной оправданное, заключение о Махно, как о весьма «забавном самодуре». Конкретная озверелая контрреволюционная махновщина превращена презирающим реальность, действительность, формалистом — в импрессионистически поданный анекдот. Так формализм, сам того часто не чая, выхолащивает конкретное идейное содержание, возмутительно искажает нашу действительность, нашу историю.

«Она еще доживает свой век — старая, кондовая Русь с ларцами, сундуками, иконами, лампадным маслом, с ватрушками, шаньгами по „престольным“ праздникам, с обязательными тараканами, с запечным медлительным, распаренным развратом, с изуверской верой, прежде всего апеллирующей к богу на предмет изничтожения большевиков, с махровым антисемитизмом, с акафистом, поминками и всем прочим антуражем.Еще живет „россеянство“, своеобразно дошедшее до нашего времени славянофильство, даже этакое боевое противозападничество с верой по прежнему, по старинке, в „особый“ путь развития, в народ-„богоносец“, с погружением в „философические“ глубины мистического „народного духа“ и красоты „национального“ фольклора».

Среди великого множества книг о Христе эта занимает особое место. Монография целиком посвящена исследованию обстоятельств рождения и смерти Христа, вплетенных в историческую картину Иудеи на рубеже Новой эры. Сам по себе факт обобщения подобного материала заслуживает уважения, но ценность книги, конечно же, не только в этом. Даты и ссылки на источники — это лишь материал, который нуждается в проникновении творческого сознания автора. Весь поиск, все многогранное исследование читатель проводит вместе с ним и не перестает удивляться.

Основу сборника представляют воспоминания итальянского католического священника Пьетро Леони, выпускника Коллегиум «Руссикум» в Риме. Подлинный рассказ о его служении капелланом итальянской армии в госпиталях на территории СССР во время Второй мировой войны; яркие подробности проводимых им на русском языке богослужений для верующих оккупированной Украины; удивительные и странные реалии его краткого служения настоятелем храма в освобожденной Одессе в 1944 году — все это дает правдивую и трагичную картину жизни верующих в те далекие годы.

«История эллинизма» Дройзена — первая и до сих пор единственная фундаментальная работа, открывшая для читателя тот сравнительно поздний период античной истории (от возвышения Македонии при царях Филиппе и Александре до вмешательства Рима в греческие дела), о котором до того практически мало что знали и в котором видели лишь хаотическое нагромождение войн, динамических распрей и политических переворотов. Дройзен сумел увидеть более общее, всемирно-историческое значение рассматриваемой им эпохи древней истории.
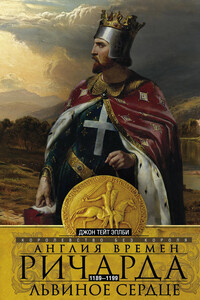
Король-крестоносец Ричард I был истинным рыцарем, прирожденным полководцем и несравненным воином. С львиной храбростью он боролся за свои владения на континенте, сражался с неверными в бесплодных пустынях Святой земли. Ричард никогда не правил Англией так, как его отец, монарх-реформатор Генрих II, или так, как его брат, сумасбродный король Иоанн. На целое десятилетие Англия стала королевством без короля. Ричард провел в стране всего шесть месяцев, однако за годы его правления было сделано немало в совершенствовании законодательной, административной и финансовой системы.
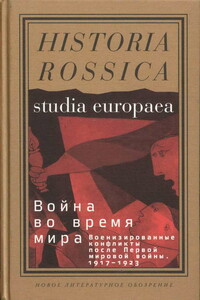
Первая мировая война, «пракатастрофа» XX века, получила свое продолжение в чреде революций, гражданских войн и кровавых пограничных конфликтов, которые утихли лишь в 1920-х годах. Происходило это не только в России, в Восточной и Центральной Европе, но также в Ирландии, Малой Азии и на Ближнем Востоке. Эти практически забытые сражения стоили жизни миллионам. «Война во время мира» и является предметом сборника. Большое место в нем отводится Гражданской войне в России и ее воздействию на другие регионы. Эйфория революции или страх большевизма, борьба за территории и границы или обманутые ожидания от наступившего мира — все это подвигало массы недовольных к участию в военизированных формированиях, приводя к радикализации политической культуры и огрубению общественной жизни.

Владимир Александрович Костицын (1883–1963) — человек уникальной биографии. Большевик в 1904–1914 гг., руководитель университетской боевой дружины, едва не расстрелянный на Пресне после Декабрьского восстания 1905 г., он отсидел полтора года в «Крестах». Потом жил в Париже, где продолжил образование в Сорбонне, близко общался с Лениным, приглашавшим его войти в состав ЦК. В 1917 г. был комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте и лично арестовал Деникина, а в дни Октябрьского переворота участвовал в подавлении большевистского восстания в Виннице.