Формализм в живописи - [6]
Нужно ли после всего этого удивляться тому, что у, молодых художников, подпавших в известной мере под влияние Древина, искажение нашей действительности доведено до степени возмутительного пасквиля. Для примера возьмем хотя бы Глускина, который в погоне за примитивностью ощущения изобразил на картинах «Демонстрация», «Выезд колхозников в поле» оравы кретинов. Хорошие семена дают хорошие всходы![1].
Из группы «стариков», эстетствующих формалистов, я хочу особо остановиться на Шевченко и Штеренберге.
В полотнах Шевченко явно ощущается путь, берущий свое начало в объемном кубизме. Но это, конечно, уже не кубизм. Последний отложился, напластовался в особой гипертрофированной манере «складывания» фигур и вещей из отдельных, геометрически ощущаемых, объемов.
Мир как бы обрушивается на художника этими гипертрофированными объемами, они душат и заслоняют живую связь вещей и человека. Они довлеют сами себе. Мир не движется, а застыл в них. Законы его движения, процессы заслонены от художника его сугубым субъективизмом.
Это отсутствие ощущения взаимосвязанности вещей и людей, проистекающее от отсутствия социальной связи с нашей действительностью, естественно приводит к пессимистичности, ярко выражаемой как в цветовой гамме, так и в условном облике предметов. Колорит мрачен, большинство полотен зачернены и эту черноту с трудом пробивают борющиеся с ней светлые тона. Мрачный, застывший объемный мир вещей, не поддающийся раскрытию в сознании художника. Предметы лишены деталей, доведены до максимальной условности: оголенные без ветвей деревья, горы с застывшими, как бы искусственно сделанными складками и т. п. Дерево ли это, гора ли, наконец, человеческое ли это тело — все это производит впечатление полых вещей. Они объемны, но как бы не материальны. Они рельефны, но не раскрыты.
Еще бессильный передать взаимосвязь людей и вещей окружающего его мира, Шевченко все же зорко их видит. В этом большой залог.
И мы действительно наблюдаем, что в творчестве последнего времени у этого большого мастера намечается какой-то перелом. Он еще робко прощупывает новые пути, он еще во власти формализма, но начало творческой перестройки чувствуется. Об этом говорят такие, скажем, полотна, как «Мещанка», «Колхозницы ожидающие поезда».
Много хуже обстоит дело с молодым последователем Шевченко — художником Барто.
Барто — это законченная и крайняя степень формализма. Правда, это крайняя степень легкомысленного и, я бы сказал, поверхностного порядка. Картины Барто демонстрируют выхолощенный, эстетский подход к действительности. Все внимание художника направлено на придание объектам своих картин характера лощеной красивости, какого-то «светского шика» с полагающимися ему по рангу штампами манерности, нарочитой холодности, томной, но пустой по существу, рафинированности, «изысканности». Бесконечные женские «головки», застывшие на его полотнах в угловатом стандарте удлиненных лиц, опушенных локонами, — являются для его творчества почти символическим обобщением. Это — салонные произведения, которые просятся на стены специфических комнат, обставленных мягкими пуфами, изогнутыми софами, жеманными фарфоровыми безделушками, комнат, продушенных сладким запахом «парижских духов».
Барто демонстрирует своим творчеством, что он живет не только на отлете, но как бы вне нашей действительности. Он создал свой мир, вернее протащил к нам чужой мир и через этот застывший мир чужих вещей и людей, превращенных в вещи, хочет преломить и нашу действительность. Если бы Барто был по-настоящему думающим (пусть по-своему) художником, мы бы имели полное основание отнести его к категориям субъективных идеалистов. Но так как он только Отражает размышления других художников (в частности Шевченко), заимствуя только форму, он может этот субъективный идеализм только пародировать.
Когда чуждым нам языком, чуждой образной системой Барто пробует подойти к советской тематике, тогда дело обстоит уже из рук вон плохо.
Одна из картин Барто называется «Лампочка Ильича в ауле». Заметьте не просто «аул» или «электричество в ауле», а именно «лампочка Ильича». Лампочка Ильича это не какая-нибудь «фабричная марка», это символ огромной идеи электрификации, поднятия экономики и сознания на высшую ступень. И, вот, эта «лампочка Ильича» интерпретирована Барто в следующем виде: театрально-декоративная черно-синяя кавказская ночь. Сакля. Из сакли ложится на землю локально ограниченное ярко-желтое пятно (электричество). На переднем плане — спины нескольких человек. Это все. Внимание художника целиком израсходовано в столь ответственной теме на самодовлеющую декоративную игру теплого желтого и холодного черно-синего цветов. Так Барто выхолащивает идею, так политическое содержание приносится в жертву чисто зрительному, формальному отношению к вещи, к нашей действительности.
Вторая картина называется «Партизаны». Нарочито монументальный, очевидно кавказский пейзаж, цепь гор. Все сделано крупными плоскостями и притом с таким расчетом, чтобы это подавляло своей мощностью. На переднем плане, на дороге, маленькие, схематически поданные, как бы шахматные фигурки. В антураже нагроможденных в пейзаже плоскостей и объемов эти фигурки кажутся скучающим роем мух. Говорить о какой-либо психологической выразительности этого роя «партизан» не приходится. Так художник социально оскопляет своим формалистским субъективизмом революционную тему.
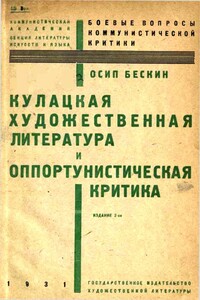
«Она еще доживает свой век — старая, кондовая Русь с ларцами, сундуками, иконами, лампадным маслом, с ватрушками, шаньгами по „престольным“ праздникам, с обязательными тараканами, с запечным медлительным, распаренным развратом, с изуверской верой, прежде всего апеллирующей к богу на предмет изничтожения большевиков, с махровым антисемитизмом, с акафистом, поминками и всем прочим антуражем.Еще живет „россеянство“, своеобразно дошедшее до нашего времени славянофильство, даже этакое боевое противозападничество с верой по прежнему, по старинке, в „особый“ путь развития, в народ-„богоносец“, с погружением в „философические“ глубины мистического „народного духа“ и красоты „национального“ фольклора».

Монография посвящена актуальной научной проблеме — взаимоотношениям Советской России и великих держав Запада после Октября 1917 г., когда русский вопрос, неизменно приковывавший к себе пристальное внимание лидеров европейских стран, получил особую остроту. Поднятые автором проблемы геополитики начала XX в. не потеряли своей остроты и в наше время. В монографии прослеживается влияние внутриполитического развития Советской России на формирование внешней политики в начальный период ее существования. На основе широкой и разнообразной источниковой базы, включающей как впервые вводимые в научный оборот архивные, так и опубликованные документы, а также не потерявшие ценности мемуары, в книге раскрыты новые аспекты дипломатической предыстории интервенции стран Антанты, показано, что знали в мире о происходившем в ту эпоху в России и как реагировал на эти события.

Среди великого множества книг о Христе эта занимает особое место. Монография целиком посвящена исследованию обстоятельств рождения и смерти Христа, вплетенных в историческую картину Иудеи на рубеже Новой эры. Сам по себе факт обобщения подобного материала заслуживает уважения, но ценность книги, конечно же, не только в этом. Даты и ссылки на источники — это лишь материал, который нуждается в проникновении творческого сознания автора. Весь поиск, все многогранное исследование читатель проводит вместе с ним и не перестает удивляться.

Основу сборника представляют воспоминания итальянского католического священника Пьетро Леони, выпускника Коллегиум «Руссикум» в Риме. Подлинный рассказ о его служении капелланом итальянской армии в госпиталях на территории СССР во время Второй мировой войны; яркие подробности проводимых им на русском языке богослужений для верующих оккупированной Украины; удивительные и странные реалии его краткого служения настоятелем храма в освобожденной Одессе в 1944 году — все это дает правдивую и трагичную картину жизни верующих в те далекие годы.

«История эллинизма» Дройзена — первая и до сих пор единственная фундаментальная работа, открывшая для читателя тот сравнительно поздний период античной истории (от возвышения Македонии при царях Филиппе и Александре до вмешательства Рима в греческие дела), о котором до того практически мало что знали и в котором видели лишь хаотическое нагромождение войн, динамических распрей и политических переворотов. Дройзен сумел увидеть более общее, всемирно-историческое значение рассматриваемой им эпохи древней истории.

Король-крестоносец Ричард I был истинным рыцарем, прирожденным полководцем и несравненным воином. С львиной храбростью он боролся за свои владения на континенте, сражался с неверными в бесплодных пустынях Святой земли. Ричард никогда не правил Англией так, как его отец, монарх-реформатор Генрих II, или так, как его брат, сумасбродный король Иоанн. На целое десятилетие Англия стала королевством без короля. Ричард провел в стране всего шесть месяцев, однако за годы его правления было сделано немало в совершенствовании законодательной, административной и финансовой системы.

Владимир Александрович Костицын (1883–1963) — человек уникальной биографии. Большевик в 1904–1914 гг., руководитель университетской боевой дружины, едва не расстрелянный на Пресне после Декабрьского восстания 1905 г., он отсидел полтора года в «Крестах». Потом жил в Париже, где продолжил образование в Сорбонне, близко общался с Лениным, приглашавшим его войти в состав ЦК. В 1917 г. был комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте и лично арестовал Деникина, а в дни Октябрьского переворота участвовал в подавлении большевистского восстания в Виннице.