Фонвизин - [6]
«Хищной волк в некоторое время увидел, что козленок от стада отстал, и для того за ним погнался. Как козленок увидел, что ему от волка не уйти, то сам к нему подошедши, сказал: „Я уже, господин волк, сам вижу, что мне от вас съедену быть; только я еще вздумал перед смертью своею поскакать и повеселиться. Ты великой мастер на сиповке играть. Пожалуй, мне поиграй, а я перед последним концом попляшу“. Волк было стал на сиповке играть, а козленок перед ним конта-танц выпрыгивать начал. Но вблизи бывшие собаки, сиповошной голос услыша и тотчас подбежавши, волка растянули, а козленок чрез то освободился. Бедной изодранной волк, лежачи при смерти, сказал: „Таково-то худое не за свое дело и ремесло приниматься. Мне было лучше мясником, а не сиповщиком быть“».
Сразу за текстом басни следуют короткое «учение» («Ежели хитрова обманщика похвалить, то и самой простак обмануть ево может») и пространное, содержащее рассуждения о чудесном вмешательстве «правосудного Бога», «примечание» английского моралиста.
А вот содержащая диалог тех же персонажей басня Хольберга «Козленок отвечает волку», как ее перевел Фонвизин:
«Волк увидел на горе козленка, хотел иметь его своею добычею. Но как не мог он взойти на гору сам, то старался приманить его к себе лестными словами.
— Не бойся ничего, — говорил он козленку, — мне, конечно, совестно поступить с тобою худо и огорчить тем твоих родителей.
— Я б охотно тебе в том поверил, — отвечает ему козленок, — однако мне должно еще спросить У родителей моих, имеет ли волк совесть?
Волк, услышав то, не хотел дожидаться, что скажут козленку на его вопрос, и пошел со стыдом прочь.
Баснь учит детей не начинать ничего без родительского совету».
Несомненно, к публикации русского перевода «Нравоучительных басен» Хольберга отечественная читающая публика была изрядно подготовлена и в труде молодого Фонвизина увидела сочинение изящное и написанное языком весьма чистым. Возможно, по этим причинам дебют юного переводчика прошел удачно: второе, дополненное сорока двумя новыми баснями, издание этой книги вышло в 1765-м, третье — в 1787 году.
Совсем иначе сложилась судьба другого перевода, выполненного Фонвизиным в том же 1761 году — «Метаморфоз» Овидия. Эта работа Фонвизина-переводчика до нас не дошла, однако исследователи находят ее следы в творчестве русских поэтов XVIII века того же Василия Майкова. Немногим больше известно о переводе Фонвизиным «Илиады» Гомера. В бумагах писателя сохранился черновой список фрагмента 6-й песни, содержащий прозаическое описание «страшной битвы» и заканчивающийся призывом Агамемнона, разгневанного милосердием Менелая, истреблять троянцев без всякой жалости. Редактор «Сочинений, писем и избранных переводов Д. И. Фонвизина» (1866) П. А. Ефремов и замечательный советский исследователь Г. А. Гуковский высказывали предположение, что этот перевод относится к последним годам жизни писателя, однако точными сведениями о том, когда, где, при каких обстоятельствах и с какого языка выполнялся этот перевод, мы не располагаем.
Итак, хорошее знание латинского и немецкого позволило Фонвизину заявить о себе как о весьма квалифицированном переводчике. Неожиданное происшествие заставило его расширить круг известных ему иностранных языков. Из «Чистосердечного признания» следует, что некий молодой человек, сын петербургского вельможи, поначалу очень расположенный к Фонвизину, был крайне разочарован, узнав, что тот не владеет французским. Насмешек Денис не спустил и, по его собственному выражению, «загонял» шутника эпиграммами, однако за французский принялся и благодаря хорошему латинскому за два года изучил его настолько, что был в силах переводить самого Вольтера.
Определенно, в елизаветинское царствование языковые приоритеты российского дворянства изменились кардинальным образом. Если в аннинско-петровской России самым востребованным европейским языком был немецкий (не случайно замечательный историк и государственный деятель того времени Василий Никитич Татищев настоятельно рекомендовал юношеству изучать немецкий и сам, общаясь во время командировки в Швецию в 1724–1726 годах со своими скандинавскими коллегами, поражал их, владеющих немецким не хуже, чем шведским, своими познаниями в этом языке), то теперь главным иностранным языком стал французский. Как бы то ни было, закончив университетское обучение, Денис может переводить с трех языков — латинского, немецкого и французского. С немецкого лучше, с французского — существенно хуже. Латинский же необходим Фонвизину не только для упражнения в переводах древних авторов (сочинения которых продавались в университетской книжной лавке во множестве), но и для самого пребывания в университете.
Из «Прибавления» к «Московским ведомостям» следует, что 17 декабря 1758 года в «большой университетской аудитории» в присутствии завершивших учебный год студентов и гимназистов «держан был диспут из натуральной теологии на латинском языке», а из «Чистосердечного признания» — что переключившись, по-видимому, в 1760 году на новый для себя французский и продолжая «упражняться в переводах на российский язык с немецкого», Фонвизин с огромным удовольствием слушает блестящие лекции по логике доктора философии и профессора Московского университета (в то время еще и ректора гимназии) Иоганна Маттиаса Шадена на латинском языке. Отметим попутно, что для Фонвизина-гимназиста оба эти события напрямую связаны с его переходом на новую ступень университетского обучения. Известно, что по окончании теологического диспута в декабре 1758 года Шаден объявил имена «прилежнейших учеников», «произведенных по экзамену в высшие классы как в дворянской, так и в разночинской гимназиях», и среди прочих назвал Дениса и Павла «фон Визиных». Про Шадена же Фонвизин пишет, что «сей ученый муж имеет отменное дарование преподавать лекции и изъяснять так внятно, что успехи наши были очевидны, и мы с братом скоро потом произведены были в студенты». По мнению некоторых исследователей, это событие произошло в 1760 году. Правда, из «Прибавления» к другому номеру «Московских ведомостей» следует, что 26 апреля 1761 года Московский университет «по обыкновению торжествовал» день коронования Елизаветы Петровны, и Денис Фонвизин был одним из награжденных по этому случаю учеников немецкого высшего класса, а вовсе не студентов. В том же документе о Денисе «фон Визине» сказано, что в 1761 году из высшего латинского класса он переводится «в Риторику» и из нижнего французского класса — во второй французский же класс. В самом начале 1760-х годов студентом Фонвизин еще не был и стал им, по справедливому предположению большинства его биографов, лишь в 1762 году (точнее, в самом конце июня 1762 года).
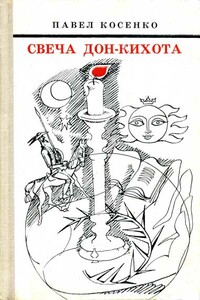
«Литературная работа известного писателя-казахстанца Павла Косенко, автора книг „Свое лицо“, „Сердце остается одно“, „Иртыш и Нева“ и др., почти целиком посвящена художественному рассказу о культурных связях русского и казахского народов. В новую книгу писателя вошли биографические повести о поэте Павле Васильеве (1910—1937) и прозаике Антоне Сорокине (1884—1928), которые одними из первых ввели казахстанскую тематику в русскую литературу, а также цикл литературных портретов наших современников — выдающихся писателей и артистов Советского Казахстана. Повесть о Павле Васильеве, уже знакомая читателям, для настоящего издания значительно переработана.».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Флора Павловна Ясиновская (Литвинова) родилась 22 июля 1918 года. Физиолог, кандидат биологических наук, многолетний сотрудник электрофизиологической лаборатории Боткинской больницы, а затем Кардиоцентра Академии медицинских наук, автор ряда работ, посвященных физиологии сердца и кровообращения. В начале Великой Отечественной войны Флора Павловна после краткого участия в ополчении была эвакуирована вместе с маленький сыном в Куйбышев, где началась ее дружба с Д.Д. Шостаковичем и его семьей. Дружба с этой семьей продолжается долгие годы. После ареста в 1968 году сына, известного правозащитника Павла Литвинова, за участие в демонстрации против советского вторжения в Чехословакию Флора Павловна включается в правозащитное движение, активно участвует в сборе средств и в организации помощи политзаключенным и их семьям.

21 мая 1980 года исполняется 100 лет со дня рождения замечательного румынского поэта, прозаика, публициста Тудора Аргези. По решению ЮНЕСКО эта дата будет широко отмечена. Писатель Феодосий Видрашку знакомит читателя с жизнью и творчеством славного сына Румынии.

В этой книге рассказывается о жизни и деятельности виднейшего борца за свободную демократическую Румынию доктора Петру Грозы. Крупный помещик, владелец огромного состояния, широко образованный человек, доктор Петру Гроза в зрелом возрасте порывает с реакционным режимом буржуазной Румынии, отказывается от своего богатства и возглавляет крупнейшую крестьянскую организацию «Фронт земледельцев». В тесном союзе с коммунистами он боролся против фашистского режима в Румынии, возглавил первое в истории страны демократическое правительство.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
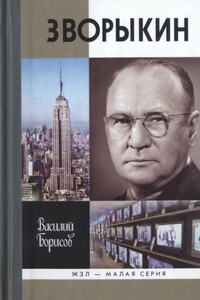
В. К. Зворыкин (1889–1982) — человек удивительной судьбы, за океаном его называли «щедрым подарком России американскому континенту». Молодой русский инженер, бежавший из охваченной Гражданской войной России, первым в мире создал действующую установку электронного телевидения, но даже в «продвинутой» Америке почти никто в научном мире не верил в перспективность этого изобретения. В годы Второй мировой войны его разработки были использованы при создании приборов ночного видения, управляемых бомб с телевизионной наводкой, электронных микроскопов и многого другого.
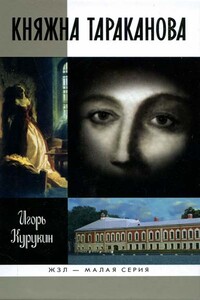
Та, которую впоследствии стали называть княжной Таракановой, остаётся одной из самых загадочных и притягательных фигур XVIII века с его дворцовыми переворотами, колоритными героями, альковными тайнами и самозванцами. Она с лёгкостью меняла имена, страны и любовников, слала письма турецкому султану и ватиканскому кардиналу, называла родным братом казацкого вождя Пугачёва и заставила поволноваться саму Екатерину II. Прекрасную авантюристку спонсировал польский магнат, а немецкий владетельный граф готов был на ней жениться, но никто так и не узнал тайну её происхождения.

Литературная слава Сергея Довлатова имеет недлинную историю: много лет он не мог пробиться к читателю со своими смешными и грустными произведениями, нарушающими все законы соцреализма. Выход в России первых довлатовских книг совпал с безвременной смертью их автора в далеком Нью-Йорке.Сегодня его творчество не только завоевало любовь миллионов читателей, но и привлекает внимание ученых-литературоведов, ценящих в нем отточенный стиль, лаконичность, глубину осмысления жизни при внешней простоте.Первая биография Довлатова в серии "ЖЗЛ" написана его давним знакомым, известным петербургским писателем Валерием Поповым.Соединяя личные впечатления с воспоминаниями родных и друзей Довлатова, он правдиво воссоздает непростой жизненный путь своего героя, историю создания его произведений, его отношения с современниками, многие из которых, изменившись до неузнаваемости, стали персонажами его книг.
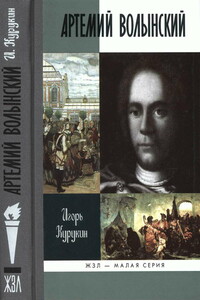
Один из «птенцов гнезда Петрова» Артемий Волынский прошел путь от рядового солдата до первого министра империи. Потомок героя Куликовской битвы участвовал в Полтавской баталии, был царским курьером и узником турецкой тюрьмы, боевым генералом и полномочным послом, столичным придворным и губернатором на окраинах, коннозаводчиком и шоумейкером, заведовал царской охотой и устроил невиданное зрелище — свадьбу шута в «Ледяном доме». Он не раз находился под следствием за взяточничество и самоуправство, а после смерти стал символом борьбы с «немецким засильем».На основании архивных материалов книга доктора исторических наук Игоря Курукина рассказывает о судьбе одной из самых ярких фигур аннинского царствования, кабинет-министра, составлявшего проекты переустройства государственного управления, выдвиженца Бирона, вздумавшего тягаться с могущественным покровителем и сложившего голову на плахе.