Философский комментарий. Статьи, рецензии, публицистика, 1997-2015 - [28]
Н. Г.Давайте вернемся к русской сексуальной культуре. Только ли цинична она, как вы утверждаете?
И. С.Есть гигантская традиция русского эротического словесного искусства, которая тянется от фольклора через XVIII век, породивший “Пригожую повариху” Чулкова и барковиану, к романтизму: к “Опасному соседу” Василия Львовича Пушкина, к непристойнам стихам его племянника, к юнкерским поэмам Лермонтова. Нового расцвета это искусство достигает в эпоху символизма, у Брюсова, Зиновьевой-Аннибал, Кузмина, в “Царице поцелуев” Сологуба, у Арцыбашева, Анатолия Каменского и т. д. Инерция символизма дает себя знать в авангардистских текстах Андрея Платонова, Пильняка (рисовавшего большевистскую некрофилию), Артема Веселого и многих других писателей 1920-х годов. Я никак не могу согласиться с мнением Бориса Огибенина (чьи труды я вообще-то высоко ценю) о том, что “…в русской литературе не существует собственно литературного эротического словаря, как отсутствует и соответствующий литературный этикет” (“О русской словесности и поэтике непристойного языка” // Любовь и эротика в русской литературе XX века, Bern e. а. 1992). Боря принял на веру самоупоенность Набокова, выкинувшего, видать, из памяти “Нет я не дорожу мятежным наслажденьем…”. Тем не менее и впрямь известен большой массив русской литературы, как классической, так и неклассической, в котором обнаруживается чрезвычайно осторожный, почти как будто пуританский подход к эротическим эпизодам. Эрос присутствует здесь, но он не передается впрямую, вещи не названы своими именами. Он скорее подразумевается, чем непосредственно преподносится читателю. Таков Лев Толстой, таков Тургенев — примеры можно было бы множить и множить. Не то чтобы русская словесность страдала ханжеством — сексуальность часто оказывается для нее несказуемой, невыразимой (нераскрываемая тайна особенно сильно воздействует на читателей, которые вынуждены запускать в работу их собственную фантазию). Сплетение тел не то, о чем следует молчать из-за запрета на высказывания о плотской любви, но то, что никак нельзя обозначить, для чего нет слов. Я бы определил ероche такого рода как наследие, полученное род- ной литературой от византийско-русского исихазма и — шире — от отрицательного богословия (Дионисий Ареопагит был в высшей степени популярен в Московском государстве в позднем средневековье). Названная осо-
бенность нашей литературы — другая сторона ее циничного обращения с сексуальностью. Перед нами опять же результат остранения сексуальности, ее делегирования Другому, невозможность ее непосредственно и соучастно пережить. Она входит в данном случае не в сферу собственно поэтического, а в ту, которую называют “возвышенным” (первым, кто противопоставил эти области, был, как известно, Кант). Будучи сублимированными, требования плоти не манифестируемы с помощью приемов художественной выразительности и становятся для литературы неприкасаемым предметом. Итак: в одном плане у нас в наличии резкое снижение Эроса, а в другом — его — до неартикулируемости — возвышение в литературе. Русское сублимирование половой жизни нашло свое философски-теологическое обоснование у Бориса Вышеславцева (в его книге “Этика преображенного Эроса”). Сталинский период был победой “возгонки” сексуальности, в силу чего она была без остатка вытеснена за пределы культурно допустимого. В 1970—1980-х годах возрождается исконно русское — фольклорное, не византийское — циничное отношение к эротике. Достаточно вспомнить “Тридцатую любовь Марины” Сорокина, где сексуальность загрязняется за счет примешивания к ее описанию фекальных мотивов. Снижение сексуальности Сорокин последовательно проводит во всех своих романах и пьесах — вплоть до “Голубого сала”, где гомосексуальный половой акт исполняют Хрущев (active) и Сталин (passive). Это смешная сцена, которая заставляет нас вернуться к первоистокам похабного русского Эроса.
Осень 2002 года: продолжение
Н. Г.Кто бы мог подумать два года тому назад, когда мы остановили нашу беседу на “Голубом сале”, что его автор будет обвинен за создание порнографического сочинения? Что случилось со страной?
И. С.Революция кончилась, о чем и известил весь мир новый президент. Несколько раз в СССР крутые повороты государственной политики в сторону обострения гражданских конфликтов предвосхищались кампаниями против литераторов. В 1929 году перед началом коллективизации в прессе был поднят шум по поводу Пильняка и Замятина, опубликовавших — соответственно — “Красное дерево” и “Мы” на Западе. Прелюдией Большого террора явились газетные выступления против формализма в искусстве, не ограничившиеся одной музыкой. Подавляя независимую от государства общественность, слегка зашевелившуюся во время Второй мировой войны, Жданов затеял — накануне выселения евреев за новую черту оседлости — охаивание Ахматовой и Зощенко. Расставаясь с хрущевским “либерализмом” (крайне сомнительного, впрочем, толка), Брежнев допустил в 1965 году суд над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. Нынешние нападки на Сорокина, естественно, вызывают в памяти только что названный ряд событий. Самый ранний эксперимент в таком направлении был проведен в 1923 году напостовцами, призвавшими большевистскую верхушку разгромить “попутчиков”. Но первый блин, как всегда, вышел комом. Троцкий и Бухарин не поддержали новоиспеченных охранителей партийной чистоты культуры, что нашло отражение в постановлении ЦК ВКП(б), обнародованном в 1925 году. Удары по Лимонову, Сорокину, Баяну Ширянову не обещают России в будущем реализации ее либеральных грез. Дай Бог, чтобы “Идущих вместе” постигла участь напостовцев! “Горька судьба поэтов всех времен; / Тяжеле всех судьба казнит Россию”. А все почему? Да потому, что литература на нашей родине — позднее и для власть имущих непривычное (до сих пор!) в своей автократии явление.
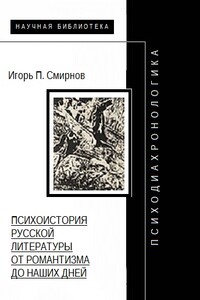
Читатель обнаружит в этой книге смесь разных дисциплин, состоящую из психоанализа, логики, истории литературы и культуры. Менее всего это смешение мыслилось нами как дополнение одного объяснения материала другим, ведущееся по принципу: там, где кончается психология, начинается логика, и там, где кончается логика, начинается историческое исследование. Метод, положенный в основу нашей работы, антиплюралистичен. Мы руководствовались убеждением, что психоанализ, логика и история — это одно и то же… Инструментальной задачей нашей книги была выработка такого метаязыка, в котором термины психоанализа, логики и диахронической культурологии были бы взаимопереводимы.

Что такое смысл? Распоряжается ли он нами или мы управляем им? Какова та логика, которая отличает его от значений? Как он воплощает себя в социокультурной практике? Чем вызывается его историческая изменчивость? Конечен он либо неисчерпаем? Что делает его то верой, то знанием? Может ли он стать Злом? Почему он способен перерождаться в нонсенс? Вот те вопросы, на которые пытается ответить новая книга известного филолога, философа, культуролога И.П. Смирнова, автора книг «Бытие и творчество», «Психодиахронологика», «Роман тайн “Доктор Живаго”», «Социософия революции» и многих других.
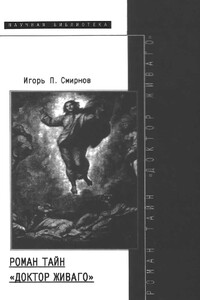
Исследование известного литературоведа Игоря П. Смирнова посвящено тайнописи в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» Автор стремится выявить зашифрованный в нем опыт жизни поэта в культуре, взятой во многих измерениях — таких, как история, философия, религия, литература и искусство, наука, пытается заглянуть в смысловые глубины этого значительного и до сих пор неудовлетворительно прочитанного произведения.

В книге профессора И. П. Смирнова собраны в основном новые работы, посвященные художественной культуре XX века. В круг его исследовательских интересов в этом издании вошли теория и метатеория литературы; развитие авангарда вплоть до 1940–1950-х гг.; смысловой строй больших интертекстуальных романов – «Дара» В. Набокова и «Доктора Живаго» Б. Пастернака; превращения, которые претерпевает в лирике И. Бродского топика поэтического безумия; философия кино и самопонимание фильма относительно киногенной действительности.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге, название которой заимствовано у Аристотеля, представлен оригинальный анализ фигуры животного в философской традиции. Животность и феномены, к ней приравненные или с ней соприкасающиеся (такие, например, как бедность или безумие), служат в нашей культуре своего рода двойником или негативной моделью, сравнивая себя с которой человек определяет свою природу и сущность. Перед нами опыт не столько даже философской зоологии, сколько философской антропологии, отличающейся от классических антропологических и по умолчанию антропоцентричных учений тем, что обращается не к центру, в который помещает себя человек, уверенный в собственной исключительности, но к периферии и границам человеческого.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Книга содержит три тома: «I — Материализм и диалектический метод», «II — Исторический материализм» и «III — Теория познания».Даёт неплохой базовый курс марксистской философии. Особенно интересена тем, что написана для иностранного, т. е. живущего в капиталистическом обществе читателя — тем самым является незаменимым на сегодняшний день пособием и для российского читателя.Источник книги находится по адресу https://priboy.online/dists/58b3315d4df2bf2eab5030f3Книга ёфицирована. О найденных ошибках, опечатках и прочие замечания сообщайте на [email protected].

Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И какой возможен выход из него? На эти вопросы и пытается ответить данная работа доктора философских наук, профессора И.В.Малышева, ориентированная на специалистов: эстетиков, философов, культурологов.

Данное издание стало результатом применения новейшей методологии, разработанной представителями санкт-петербургской школы философии культуры. В монографии анализируются наиболее существенные последствия эпохи Просвещения. Авторы раскрывают механизмы включения в код глобализации прагматических установок, губительных для развития культуры. Отдельное внимание уделяется роли США и Запада в целом в процессах модернизации. Критический взгляд на нынешнее состояние основных социальных институтов современного мира указывает на неизбежность кардинальных трансформаций неустойчивого миропорядка.

Монография посвящена исследованию становления онтологической парадигмы трансгрессии в истории европейской и русской философии. Основное внимание в книге сосредоточено на учениях Г. В. Ф. Гегеля и Ф. Ницше как на основных источниках формирования нового типа философского мышления.Монография адресована философам, аспирантам, студентам и всем интересующимся проблемами современной онтологии.