Философский комментарий. Статьи, рецензии, публицистика, 1997-2015 - [26]
Н. Г.Мастурбация тоже не имеет проникающего в Другого характера. Кстати, почему литература постмодернизма провозглашает основой текстопорождения мастурбацию?
И. С.Онанист так или иначе автопенетрирует. Мастурбируя, вводят палец в вагину или сжимают член в кулаке. Археперверсной такую практику назвать нельзя. Она, напротив того, подражательна, вторична относительно соития двух во плоти. Что до постмодернизма, то он не ограничивается живописанием одной мастурбации. В наделавших много шуму “Элементарных частицах” Уэльбека, панораме сексуального обихода второй половины прошлого столетия, есть сцена, в которой сатанист на sexparty склоняет двенадцатилетнюю девочку к оральному сексу, одновременно отрезая электропилой ногу и половые органы сорокалетнего мужчины. (Думаю, что Уэльбек читал французский перевод “Сердец четырех”, изданный “Галлимаром” при посредничестве Семена Мирского: главный герой романа В. Г. Сорокина совершает половой акт после лицезрения некоего Андрея Борисовича, которого пытали, ампутируя ему нижние конечности.) И все же вы, Надя, в значительной степени правы. От романа Лимонова “Это я — Эдичка” до все тех же “Элементарных частиц” литературное творчество ассоциируется постмодернистскими авторами с мастурбацией (неоднократно предававшийся ей Бруно делается у Уэльбека писателем). Для меня ранний постмодернизм — одна из самых неадекватных и неглубоких эпох в развитии человека (о чем я неоднократно высказывался). Эта культура отказалась от погружения вовнутрь явлений, рассматривая их только на поверхности. В человеческом теле мышление, сложившееся в 1960-е годы, обнаруживает, прежде всего, кожный покров. Глубина не более, чем “складка”, как выразился бы Жиль Делез. Может быть, потому эта культура и не желает задумываться о том, откуда что берется, о генезисе и архетипичности, о том, что принадлежит толще веков и недрам психики. Ранний постмодернизм самоудовлетворен. Дело меняется в позднем: если у Лимонова писатель-онанист — героический стоик, то Бруно из “Элементарных частиц” терпит полнейший жизненный крах. Сорокин — персонификация недовольства писателя самим собой: этот автор издевается над литературой во всем ее немалом объеме.
Н. Г.В чем отличие русской эротической словесности от других национальных литератур, занятых той же проблематикой?
И. С.Античный Эрос существовал под знаком педофилии. Во французском так сильна традиция де Сада, что от нее оказался зависимым и оригинальнейший Батай, который сделал, как уже говорилось, равнозначными Эрос и Танатос, правда, перевернув их соотношение, по сравнению с писаниями своего великого предшественника: смертельно тратит плоть не тот, кого, а тот, кто. В Австро-Венгерской — двухголовой — империи, делившей власть, неспроста, надо полагать, возникли романы Захера-Мазоха, гениально продолженные одним из самых дорогих для меня писателей, Музилем, в “Человеке без свойств”. Чтобы определить немецкую сексуальную культуру, стоит вспомнить “Страдания молодого Вертера”. Начиная, по меньшей мере, с Гете, немецкая сексуальность содержит в себе сильнейший привкус самонаказания, отправляемого эротическим субъектом, выдвигает на первый план автокастрацию любовника, готового убить себя, остро переживающего свое бессилие. Германия была воинственной, дабы изжить Вертера в армейской победе над соперником. Русская сексуальность однозначно цинична. Об этом свидетельствует весь наш скоромный фольклор — и сказочный, и былевой, и частушечный. Откуда берется все наше кощунство, находящее самое отчетливое воплощение в мате — в своего рода философском языке простолюдинов, который может быть универсально приложен к любому феномену (что, как никто иной, понял в одной из статей “Дневника писателя” Достоевский, открывший бесконечность в прагматике слова “хуй”)? Чтобы ответить на поставленный вопрос, вспомним раннего В. Б. Шкловского, который обращался к обсценнейшим “Заветным сказкам”, собранным Афанасьевым, чтобы проиллюстрировать понятие остранения. Циничный эротизм странен — и, прежде всего, для того, кто его практикует и исповедует. Половое влечение этого типа всегда наблюдается субъектами с некоторой дистанции, не принадлежит вполне партнерам, отчуждено от участвующих в эротической связи тел ими самими. Русский человек в постели не принадлежит себе, он старается не столько как-нибудь идентифицировать половую жизнь, сколько бежит от нее (как действующие лица гоголевской “Женитьбы” и набоковской “Защиты Лужина”) и относится к ней с изрядной долей иронии, осуждения, насмешки — как к тому, с чем он сам себя не ассоциирует. Цинизм вызывает и гибель Другого. Она при этом воспринимается осквернителем (допустим, Ставрогиным) так, что тот не в силах избыть свою холодность; наш кощунник приходит к раскаянию с непростительным запозданием (“Воскресение” Льва Толстого). Циничный русский Эрос — инобытие такового. Закономерно, что Николай Бердяев писал о том, что подлинно эротична лишь теофилия (представляете себе: он призывал к тому, чтобы мы закручивали болты Богу! а куда вводить-то ему, апофатическому?). Мы уступаем половой акт, в отчужденности от него, Другому — чужаку, сопернику. “Как дай Вам Бог любимой быть другим” Пушкина, или “Так души смотрят с высоты / На ими брошенное тело” Тютчева, или знаменитая сцена “диссоциации” (созерцания собственного мнимого обладания женщиной извне), открывающая “Despair” по тютчевскому образцу, — вот некоторые версии русского Эроса.
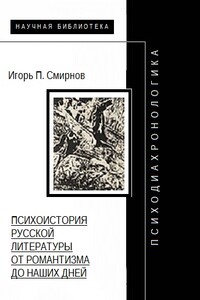
Читатель обнаружит в этой книге смесь разных дисциплин, состоящую из психоанализа, логики, истории литературы и культуры. Менее всего это смешение мыслилось нами как дополнение одного объяснения материала другим, ведущееся по принципу: там, где кончается психология, начинается логика, и там, где кончается логика, начинается историческое исследование. Метод, положенный в основу нашей работы, антиплюралистичен. Мы руководствовались убеждением, что психоанализ, логика и история — это одно и то же… Инструментальной задачей нашей книги была выработка такого метаязыка, в котором термины психоанализа, логики и диахронической культурологии были бы взаимопереводимы.

Что такое смысл? Распоряжается ли он нами или мы управляем им? Какова та логика, которая отличает его от значений? Как он воплощает себя в социокультурной практике? Чем вызывается его историческая изменчивость? Конечен он либо неисчерпаем? Что делает его то верой, то знанием? Может ли он стать Злом? Почему он способен перерождаться в нонсенс? Вот те вопросы, на которые пытается ответить новая книга известного филолога, философа, культуролога И.П. Смирнова, автора книг «Бытие и творчество», «Психодиахронологика», «Роман тайн “Доктор Живаго”», «Социософия революции» и многих других.
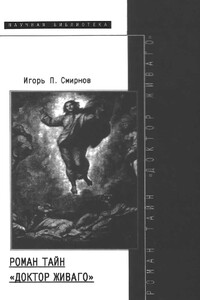
Исследование известного литературоведа Игоря П. Смирнова посвящено тайнописи в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» Автор стремится выявить зашифрованный в нем опыт жизни поэта в культуре, взятой во многих измерениях — таких, как история, философия, религия, литература и искусство, наука, пытается заглянуть в смысловые глубины этого значительного и до сих пор неудовлетворительно прочитанного произведения.

В книге профессора И. П. Смирнова собраны в основном новые работы, посвященные художественной культуре XX века. В круг его исследовательских интересов в этом издании вошли теория и метатеория литературы; развитие авангарда вплоть до 1940–1950-х гг.; смысловой строй больших интертекстуальных романов – «Дара» В. Набокова и «Доктора Живаго» Б. Пастернака; превращения, которые претерпевает в лирике И. Бродского топика поэтического безумия; философия кино и самопонимание фильма относительно киногенной действительности.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге, название которой заимствовано у Аристотеля, представлен оригинальный анализ фигуры животного в философской традиции. Животность и феномены, к ней приравненные или с ней соприкасающиеся (такие, например, как бедность или безумие), служат в нашей культуре своего рода двойником или негативной моделью, сравнивая себя с которой человек определяет свою природу и сущность. Перед нами опыт не столько даже философской зоологии, сколько философской антропологии, отличающейся от классических антропологических и по умолчанию антропоцентричных учений тем, что обращается не к центру, в который помещает себя человек, уверенный в собственной исключительности, но к периферии и границам человеческого.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Книга содержит три тома: «I — Материализм и диалектический метод», «II — Исторический материализм» и «III — Теория познания».Даёт неплохой базовый курс марксистской философии. Особенно интересена тем, что написана для иностранного, т. е. живущего в капиталистическом обществе читателя — тем самым является незаменимым на сегодняшний день пособием и для российского читателя.Источник книги находится по адресу https://priboy.online/dists/58b3315d4df2bf2eab5030f3Книга ёфицирована. О найденных ошибках, опечатках и прочие замечания сообщайте на [email protected].

Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И какой возможен выход из него? На эти вопросы и пытается ответить данная работа доктора философских наук, профессора И.В.Малышева, ориентированная на специалистов: эстетиков, философов, культурологов.

Данное издание стало результатом применения новейшей методологии, разработанной представителями санкт-петербургской школы философии культуры. В монографии анализируются наиболее существенные последствия эпохи Просвещения. Авторы раскрывают механизмы включения в код глобализации прагматических установок, губительных для развития культуры. Отдельное внимание уделяется роли США и Запада в целом в процессах модернизации. Критический взгляд на нынешнее состояние основных социальных институтов современного мира указывает на неизбежность кардинальных трансформаций неустойчивого миропорядка.

Монография посвящена исследованию становления онтологической парадигмы трансгрессии в истории европейской и русской философии. Основное внимание в книге сосредоточено на учениях Г. В. Ф. Гегеля и Ф. Ницше как на основных источниках формирования нового типа философского мышления.Монография адресована философам, аспирантам, студентам и всем интересующимся проблемами современной онтологии.