Философия новой музыки - [63]
Произведения неоклассической фазы Стравинского отличает крайне неоднородный уровень. Насколько у позднего Стравинского речь может идти о развитии, оно имеет в виду удаление занозы абсурдности. В противоположность Пикассо, от которого исходит неоклассический импульс, этот композитор вскоре не будет ощущать потребности искажать сомнительную упорядоченность. Разве что закосневшие в своих убеждениях критики все еще ищут следы дикого Стравинского. Планомерному разоча-ровыванию – «пускай они поскучают» – нельзя отказать в определенной последовательности. Оно разбалтывает тайну бунта, в котором с самого первого порыва речь шла не о свободе, а о подавлении порыва к ней. «Привинченная» позитивность позднего Стравинского свидетельствует о том, что излюбленный им тип негативности, обрушивавшейся на субъекта и оправдывавшей всевозможный гнет, уже сам был позитивен и всегда сражался на стороне сильнейшего. Правда, поначалу обращение к позитивному, к ничем не нарушаемой абсолютной музыке привело к крайнему оскудению абсолютно-музыкального элемента. Такие сочинения, как Серенада для фортепьяно или балет «Аполлон Мусагет» [131], едва ли можно превзойти в только что упомянутом. Дело в том, что Стравинский даже не стремился увеличить содержательный объем сочиняемой им эрудитской музыки и наверстать некоторые отвергнутые им со времени «Весны священной» измерения композиции, насколько было можно в рамках, которые он сам себе задал; к этому принуждала новопровозглашенная умиротворенность. От случая к случаю он допускает новомодные тематические качества, исследует второстепенные проблемы монументальной архитектуры, предлагает слушателям довольно сложные и даже полифонические формы. У подобных ему художников, которые всегда живут за счет лозунгов, всегда есть тактическое преимущество: стоит им возыметь потребность после некоторого срока ожидания извлечь из архива прием, некогда объявленный ими безнадежно устаревшим, как они тотчас же объявляют его авангардным достижением. Старания Стравинского по обогащению музыкальных структур материалом, выводимым из них самих, способствовали их большей убедительности, о чем свидетельствуют три первые части Концерта для двух фортепьяно – вторая представляет собой в высшей степени необычную и резко очерченную пьесу, – многое в Скрипичном концерте, и даже в выразительном и красочном Каприччио для фортепьяно с оркестром вплоть до банально-пламенного его финала. Но все это достигается скорее наперекор духу стиля, это невозможно записать на кредит самому неоклассическому методу. Пожалуй, монотонно фонтанирующая продукция Стравинского мало-помалу выдает и грубейшие шаблоны высеченных зубилом и ребяческих головных мотивов – как преподносит их даже Скрипичный концерт, – и увертюроподобные пунктиры, и террасообразные группы секвенций. Однако же его композиторская деятельность настолько ограничена материальной областью поврежденной тональности (которая была оставлена позади в инфантилистский период), и, прежде всего, диатоникой, нарушаемой время от времени встречающимися в отдельных группах «фальшивыми» нотами, что тем самым возможности планомерного структурирования больших форм также становятся ограниченными. Возникает впечатление, будто вытеснение композиторского процесса трюковой техникой повсеместно имело своим результатом явления выпадения. Так, несоразмерно короткая, недоразвитая фуга из Концерта для двух фортепьяно отменяет все, что ей предшествовало, а неприятно вымученные октавы в астматическом месте финала начинают насмехаться над мастером отказа, как только он протягивает руку к тому самому контрапункту, с которым не справлялась его сноровка. Вместе с шоками его музыка утрачивает и мощь. Таким произведениям, как «Карточный балет» или Дуэт для скрипки и фортепьяно, а тем более – большинству сочинений сороковых годов, присуща какая-то тусклость прикладного искусства, что не так уж далеко от позднего Равеля. Очевидно, если что-то у Стравинского еще и продолжают ценить, то только престиж; спонтанно нравятся публике единственно такие второстепенные произведения, как Русское скерцо, услужливые копии трудов его собственной юности. Он дает публике больше, чем та может вместить, и потому дает слишком мало; асоциальный Стравинский покорял холодные сердца, обходительный Стравинский оставляет их холодными. Труднее всего вынести шедевры нового жанра, без обиняков реагирующие на коллективные притязания на монументальность, такие, как ораторию «Царь Эдип» на латинском языке и Симфонию псалмов. Из-за противоречия между претензией на величие и возвышенность и потрепанно-жалким музыкальным содержанием серьезность переходит в то самое шутовство, которому он грозит пальцем. Среди позднейших произведений опять-таки есть и весьма значительное – трехчастная Симфония 1945 года. Очищенная от архаичных элементов, она обладает убедительной остротой и усердствует в лапидарной гомофонии, коей не такими уж чуждыми могут быть мысли о Бетховене: едва ли когда-либо прежде идеал подлинности выступал в столь неприкрытом виде. В высшей степени целенаправленное искусство оркестровки, при всей экономности не чурающееся таких новых красок, как чопорно-тематическая партия арфы или же сочетание фортепьяно и тромбона в фугато, целиком находится во власти этого идеала. И все-таки слушателям дается лишь намек относительно того, чего могло бы достичь это сочинение. Сведение всего тематического к простейшим прамотивам, записываемым экзегетами как раз на счет Бетховена, не оказывает ни малейшего влияния на структуру музыки. Эта структура по-прежнему представляет собой соположение «блоков» с давно привычными сдвигами звуков. Согласно этой программе, из простого соотношения частей предстоит получиться тому синтезу, из которого у Бетховена возникает динамика формы. Но крайняя редуцированность образцов мотивов должна требовать их динамической трактовки, расширения. А вот благодаря обычному методу Стравинского, коего рассматриваемое произведение неукоснительно придерживается, планомерное снятие значимости его элементов оборачивается недостаточностью, настоятельным подчеркиванием бессодержательности, а намеченное вначале внутреннее напряжение так и не устанавливается. Звук попросту оказывается медным; ход музыки дробится, а первая и последняя части обрываются там, где их можно было продолжить как угодно: они остаются в долгу перед диалектической обработкой, которую они на этот раз обещали ввиду характера тезиса. Как только возвращается тождественное самому себе, оно становится нудным и не оправдывает надежд, и даже напоминающие разработку темы контрапунктические интерполяции не властны над судьбой формального протекания музыки. Даже диссонансы, снискавшие восторженный прием в качестве трагических символов, при ближайшем рассмотрении оказываются в высшей степени укрощенными: так эксплуатируется известный бартоковский эффект нейтральной терции, достигающийся путем сочетания большой терции с малой. Симфонический пафос тут не что иное, как помрачневшее лицо абстрактной балетной сюиты.

Что такое авторитарная личность?Почему авторитарный лидер быстро подчиняет себе окружающих и легко ими манипулирует?Чем отличается авторитарная личность от социопатической, хотя и имеет с ней много общего?Почему именно в XX веке появилось столько диктаторов, установивших бесчеловечные, тоталитарные режимы при поддержке миллионов людей?На эти и многие другие вопросы отвечает Теодор В. Адорно в своем знаменитом произведении, ставшем классикой философской и социологической мысли! Перевод: М. Попова, М. Кондратенко.
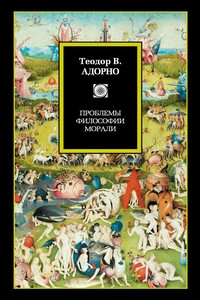
В основу этой книги легли семнадцать лекций, прочитанных Теодором В. Адорно в 1963 году и в начале 1990-х восстановленных по магнитофонным записям.В этих лекциях, парадоксальным образом изменивших европейские представления о философии морали, немецкий ученый размышляет об отношении морали и личной свободы, закона и религии и решает важнейшие проблемы современной философской науки.

«Культурная индустрия может похвастаться тем, что ей удалось без проволочек осуществить никогда прежде толком не издававшийся перевод искусства в сферу потребления, более того, возвести это потребление в ранг закономерности, освободить развлечение от сопровождавшего его навязчивого флера наивности и улучшить рецептуру производимой продукции. Чем более всеохватывающей становилась эта индустрия, чем жестче она принуждала любого отдельно стоящего или вступить в экономическую игру, или признать свою окончательную несостоятельность, тем более утонченными и возвышенными становились ее приемы, пока у нее не вышло скрестить между собой Бетховена с Казино де Пари.

Теодор Визенгрундт Адорно (1903-1969) - один из самых известных в XX веке немецкий философ и социолог леворадикальной ориентации. Его философские воззрения сложились на пересечении аргументов неогегельянства, авангардистской критики культуры, концептуального неприятия технократической рациональности и тоталитарного мышления. Сам Адорно считал "Негативную диалектику" своим главным трудом. Философия истории представлена в этой работе как методология всеобщего отрицания, диалектика -как деструкция всего данного.

Впервые на русском языке выходит книга выдающегося немецкого мыслителя XX века Теодора Адорно (1903–1969), написанная им в эмиграции во время Второй мировой войны и в первые годы после ее окончания. Озаглавленная по аналогии с «Большой этикой» («Magna moralia») Аристотеля, эта книга представляет собой отнюдь не систематический философский труд, а коллекцию острокритических фрагментов, как содержание, так и форма которых отражают неутешительный взгляд Адорно на позднекапиталистическое общество, в котором человеческий опыт дробится, рассыпается и теряет всякие ориентиры.
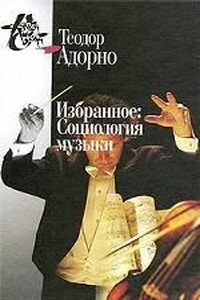
В книге публикуются произведения одного из создателей социологии музыки Теодора В. Адорно (1902-1969), крупного немецкого философа и социолога, многие годы проведшего в эмиграции в Америке ("Введение в социологию музыки. Двенадцать теоретических лекций", "Антон фон Веберн", "Музыкальные моменты"). Выдающийся музыкальный критик, чутко прислушивавшийся к становлению музыки новейшего времени, музыки XX века, сказавший весомое и новое слово о путях ее развития, ее прозрений и оправданности перед лицом трагической эпохи, Адорно предугадывает и опасности, заложенные в ее глубинах, в ее поисках выхода за пределы возможного… Советами Теодора Адорно пользовался Томас Манн, создавая "книгу боли", трагический роман "Доктор Фаустус".Том включает также четыре статьи первого российского исследователя творчества Адорно, исследователя глубокого и тонкого, – Александра Викторовича Михайлова (1938-1995), считавшего Адорно "музыкальным критиком необыкновенных, грандиозных масштабов".Книга интересна и доступна не только специалистам, но и широкому кругу читателей, интересующихся проблемами современной европейской культуры.(c) С.Я.

Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена одному из влиятельнейших философских течений в XX в. — феноменологии. Автор не стремится изложить историю возникновения феноменологии и проследить ее дальнейшее развитие, но предпринимает попытку раскрыть суть феноменологического мышления. Как приложение впервые на русском языке публикуется лекционный курс основателя феноменологии Э. Гуссерля, читанный им в 1910 г. в Геттингене, а также рукописные материалы, связанные с подготовкой и переработкой данного цикла лекций. Для философов и всех интересующихся современным развитием философской мысли.

Занятно и поучительно прослеживать причудливые пути формирования идей, особенно если последние тебе самому небезразличны. Обнаруживая, что “авантажные” идеи складываются из подхваченных фраз, из предвзятой критики и ответной запальчивости — чуть ли не из сцепления недоразумений, — приближаешься к правильному восприятию вещей. Подобный “генеалогический” опыт полезен еще и тем, что позволяет сообразовать собственную трактовку интересующего предмета с его пониманием, развитым первопроходцами и бытующим в кругу признанных специалистов.

Данная работа представляет собой предисловие к курсу Санадиса, новой научной теории, связанной с пророчествами.

В третьем томе рассматривается диалектика природных процессов и ее отражение в современном естествознании, анализируются различные формы движения материи, единство и многообразие связей природного мира, уровни его детерминации и организации и их критерии. Раскрывается процесс отображения объективных законов диалектики средствами и методами конкретных наук (математики, физики, химии, геологии, астрономии, кибернетики, биологии, генетики, физиологии, медицины, социологии). Рассматривая проблему становления человека и его сознания, авторы непосредственно подводят читателя к диалектике социальных процессов.

А. Ф. Лосев "Античный космос и современная наука"Исходник электронной версии:А.Ф.Лосев - [Соч. в 9-и томах, т.1] Бытие - Имя - Космос. Издательство «Мысль». Москва 1993 (сохранено только предисловие, работа "Античный космос и современная наука", примечания и комментарии, связанные с предисловием и означенной работой). [Изображение, использованное в обложке и как иллюстрация в начале текста "Античного космоса..." не имеет отношения к изданию 1993 г. Как очевидно из самого изображения это фотография первого издания книги с дарственной надписью Лосева Шпету].

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.