Философия как живой опыт - [33]
Есть глубочайшее нецеломудрие в этом отказе брать вещи как таковые, в этом притязании расценивать мир по какой-то номинальной стоимости, обеспеченной где-то и кем-то.
Такова подоснова всякого оптимизма: постижение бытия как блага и проч., это — косвенный отказ видеть в бытии его самого, это — попытка подменить бытие чем-то более желательным или удобным.
В какие бы сложные, выспренние и даже quasi-трагические формы ни облекалась эта концепция, какими бы косвенными и мистическими путями ни осуществлялось бы для нее торжество абсолютного блага, — формула ее проста, это формула Панглоса, формула обеспеченного метафизического благополучия. Здесь Фиванский подвижник встречается с вольнодумным аптекарем Омэ и московский марксист с Фомою Аквинатом. Все они твердо верят: в конечном счете, — все к лучшему.
Оптимизм принимает разнообразные оттенки — от розовых до патетически-мрачных включительно. В пределы этой концепции любители трагических эффектов могут со спокойной совестью вводить самые потрясающие перипетии: ведь все равно, рано или поздно, все кончится благополучно. Вот почему, еще до всякого вопроса о метафизических или иных основаниях оптимизма, я испытываю какую-то почти физическую брезгливость к оптимистам всех толков. У всех — и особенно у оптимистов возвышенно-мистического типа — есть, знаете, эта специфическая черточка какой-то опасливо-наглой уверенности, какая бывает у непорядочных игроков, привыкших делать ставки «только наверняка»… И потом, это трусливое старание спрятаться за спину того высшего смысла, во имя которого они избрали и приняли бытие; это желание сложить с себя часть ответственности за выбор, представить себя пассивным, следующим чему-то, согласующимся с чем-то…
Словом, в основе всякого оптимизма мне чувствуется духовная нечистоплотность, которая делает его для меня неприемлемым, помимо и раньше всяких других соображений.
И если я избрал бытие, то не ищу себе в этом никаких оправданий, не утешаю себя никакими надеждами, и до конца принимаю на себя одного всю тяжесть и всю ответственность своего избрания.
В. Прежде всего, вы придаете слову «оптимизм» столь широкий смысл, что в это понятие оказываются включенными противоположные и даже совершенно несоизмеримые явления.
A. Но меня интересует здесь именно то, что объединяет эти, как будто совершенно «несоизмеримые» явления. Не спорю, марксистский «прыжок из царства необходимости в царство свободы» нечто совершенно иное, чем возвращение мира в лоно Творца у Скота Эриугены, но вера в конечный смысл и там и здесь налицо. Она-то меня и отталкивает.
B. Соображения о «нечистоплотности» всякого оптимизма оставляю в стороне: это относится к вашим впечатлениям, за которые оптимизм, во всяком случае, не ответственен. Но к чему, собственно, сводится ваше обвинение в «подмене» и «метафизической сделке»? К тому, что бытие и то, ради чего оно приемлется (смысл, благо и проч.), — разные и раздельные начала. На самом деле никакой раздельности и, значит, никакого подмена, нет. Есть радостное и конкретное постижение бытия как блага и смысла, и смысла и блага — как бытия. Я принимаю бытие и вот вижу, что обрел и благо и смысл; я взыскую смысла и нахожу бытие. А вы рассуждаете так, как если бы это были розные начала, которые можно «подменить» одно другим. По какому праву вы столь решительно утверждаете несовпадение бытия и смысла? И как пришли вы к этому познанию?
А. Как пришел? Путем обратным тому, которым шли вы. Для того, чтобы сущее могло умалиться до совпадения со смыслом, вам, конечно, пришлось подвергнуть его многообразным операциям отвлечения, обобщения, обеднения. Вся так называемая «философия» — это тысячелетиями разработанная техника умаления бытия до смысла. Я шел в противоположном направлении: к конкретному, эротическому узрению сущего в его божественной единственности и живой полноте — через ненависть, боль, радость, вожделение, через живое и жадное осязание жизни. Я видел, что бытие неисчерпаемо никаким смыслом, перерастает все оценки, переливается через край всех определений, отрицает всякий предикат, превращаясь в его противоположность: постигаемое как добро, изобличает себя как зло, узреваемое как красота — предстает безобразием. Всякая вещь взрывает свое определение, говорит: я больше, я есмь.
Все противоположности добра и зла, красоты и безобразия, истины и лжи — сгорают от одного соприкосновения с бытием, враждебные смыслы пожирают друг друга, и сущее предстает в своей вожделенной наготе. Так, в каждое подлинно изживаемое мгновение осуществляется, глубже всех смыслов и оправданий, цельное, безоговорочное избрание и постижение бытия.
В. Оригинальная «теория познания»! Все сводится, в конце концов, к тому, чтобы осуществить в себе «райское» состояние, предшествовавшее различению добра и зла. Когда-то гносеологи признавали «zurück zu Kant» — это еще куда ни шло. Но ваш призыв — это, ни более ни менее: «zurück zu Adam»[36] — да еще и до грехопадения! Согласитесь, что это уж чересчур…
…Что там эти идиоты подняли за стрельбу!
A. Опять, верно, по шакалам вместо «chleus»… A нет, и по нам стреляют. Потушите свет…

Макс Нордау"Вырождение. Современные французы."Имя Макса Нордау (1849—1923) было популярно на Западе и в России в конце прошлого столетия. В главном своем сочинении «Вырождение» он, врач но образованию, ученик Ч. Ломброзо, предпринял оригинальную попытку интерпретации «заката Европы». Нордау возложил ответственность за эпоху декаданса на кумиров своего времени — Ф. Ницше, Л. Толстого, П. Верлена, О. Уайльда, прерафаэлитов и других, давая их творчеству парадоксальную характеристику. И, хотя его концепция подверглась жесткой критике, в каких-то моментах его видение цивилизации оказалось довольно точным.В книгу включены также очерки «Современные французы», где читатель познакомится с галереей литературных портретов, в частности Бальзака, Мишле, Мопассана и других писателей.Эти произведения издаются на русском языке впервые после почти столетнего перерыва.

В книге представлено исследование формирования идеи понятия у Гегеля, его способа мышления, а также идеи "несчастного сознания". Философия Гегеля не может быть сведена к нескольким логическим формулам. Или, скорее, эти формулы скрывают нечто такое, что с самого начала не является чисто логическим. Диалектика, прежде чем быть методом, представляет собой опыт, на основе которого Гегель переходит от одной идеи к другой. Негативность — это само движение разума, посредством которого он всегда выходит за пределы того, чем является.

В Тибетской книге мертвых описана типичная посмертная участь неподготовленного человека, каких среди нас – большинство. Ее цель – помочь нам, объяснить, каким именно образом наши поступки и психические состояния влияют на наше посмертье. Но ценность Тибетской книги мертвых заключается не только в подготовке к смерти. Нет никакой необходимости умирать, чтобы воспользоваться ее советами. Они настолько психологичны и применимы в нашей теперешней жизни, что ими можно и нужно руководствоваться прямо сейчас, не дожидаясь последнего часа.

На основе анализа уникальных средневековых источников известный российский востоковед Александр Игнатенко прослеживает влияние категории Зеркало на становление исламской спекулятивной мысли – философии, теологии, теоретического мистицизма, этики. Эта категория, начавшая формироваться в Коране и хадисах (исламском Предании) и находившаяся в постоянной динамике, стала системообразующей для ислама – определявшей не только то или иное решение конкретных философских и теологических проблем, но и общее направление и конечные результаты эволюции спекулятивной мысли в культуре, в которой действовало табу на изображение живых одухотворенных существ.
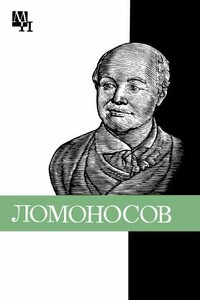
Книга посвящена жизни и творчеству М. В. Ломоносова (1711—1765), выдающегося русского ученого, естествоиспытателя, основоположника физической химии, философа, историка, поэта. Основное внимание автор уделяет философским взглядам ученого, его материалистической «корпускулярной философии».Для широкого круга читателей.

В монографии на материале оригинальных текстов исследуется онтологическая семантика поэтического слова французского поэта-символиста Артюра Рембо (1854–1891). Философский анализ произведений А. Рембо осуществляется на основе подстрочных переводов, фиксирующих лексико-грамматическое ядро оригинала.Работа представляет теоретический интерес для философов, филологов, искусствоведов. Может быть использована как материал спецкурса и спецпрактикума для студентов.