Философия как живой опыт - [12]
Вокруг этой именно проблемы нарастает в дальнейшем сложная цепь конфликтов, отречений, любви и ненависти.
Музыка романтична по своей природе; она — последыш культуры, сладостное воспоминание и утешение; поэтому она торжествует лишь тогда, когда все подлинно-великое осталось в прошлом. «Не принадлежит ли к ее природе быть противоренессансом? Не сестра ли она стилю барокко? Вообще музыка не есть ли уже декаданс? Почему немецкая музыка кульминирует именно в эпоху романтизма? Почему гетевское начало совсем не представлено в музыке? Именно как романтика музыка достигла высшей зрелости и совершенства, и как реакция против классического начала». Ницше отмечает «опасливое отношение Гете к музыке», указывает на «разнузданность музыки» и с презрением говорит: «Есть люди, которые мечтают опьянить музыкой весь мир и воображают, что тогда именно придет настоящая культура». (Сам он еще недавно принадлежал к этим именно людям.)
«Я начал с того, — рассказывает философ, — что запретил себе музыку, — это чванливое, тяжелое и удушливое искусство, которое лишает дух строгости и веселости… Cave musicam[19] — вот мое правило и мой совет всем, кто еще ценит чистоту духа».
Казалось, Ницше решительно порвал с музыкой. Но нет. Музыка мстит за себя и неотвратимо преследует изменившего: Ницше не в силах остаться при своем отрицании, он хочет противопоставить отвергнутой музыке другую, «менее абсолютную», — но все-таки музыку. Он мечтает о «музыке Юга» — «злой и веселой», «глубокой и радостной, как послеполуденный час в октябре». «II faut mediterraniser la musique!»[20] И он провозглашает первенство «аристократической» мелодии в ущерб гармонии; истолковывает «затемнение мелодии» как «демократическое безобразие» и «отголосок революции». Гармония — служанка, и ее торжество — торжество варварского, германского начала. И вот Ницше жадно ищет воплощения этой постулируемой музыки в посредственных композициях своего друга Гаста, в мелодике итальянской оперы и, наконец, со всем упрямством и пафосом отчаяния — у Бизе.
«Не надо всерьез принимать мое увлечение Бизе», — вырывается у Ницше в одном письме. Да, но Ницше не может без слез слушать «Кармен», он испещряет патетическими примечаниями поля партитуры…
И это не все. Изгнанная им и умаленная в своих правах музыка вторгается в его жизнь иными, косвенными путями. Она захлестывает страницы «Заратустры», нарушает своим мятежным напором строй и строгость ницшевой мысли. Вспомним, что рассказывает Ницше в «Ессе homo» о том состоянии музыкального «исступления», в котором создавался «Заратустра». «Может быть, «Заратустру» следует причислить к музыке», — говорил он сам. Не потому ли эта изумительная книга — формально невыносима и почти оскорбительна?..
Жажда музыки неукротимо растет и достигает своего апогея к последнему году сознательной жизни философа. Безумие приближается к нему под маской музыки. Или музыка под маской безумия?..
«Музыка возбуждает во мне теперь чувства, каких еще никогда не возбуждала».
«Только что вернулся с концерта. Это самое сильное музыкальное впечатление всей моей жизни. После четвертого такта я был в слезах».
(Весь этот восторг по поводу какого-то Россаро). Письмо помечено декабрем 1888 года. В начале января Ницше, уже безумный, целыми днями поет в своей туринской мансарде и пишет Гасту: «Спой мне новую песню. Мир просветлен, и все небеса радуются». Он подписывается: «Дионис распятый».
Музыка — лишь одна из личин той темной и разрушительной силы, с которой всю жизнь трагически и безнадежно боролся Ницше. И эта сила победила.
«Она победила — значит она права», — говорят те, кто в трагедии хочет видеть лишь плоскую нравоучительную драму, где герой своей гибелью платит за попрание правого закона.
Но извлекать «мораль» из трагедии — кощунственно.
Оставим трагедию Ницше и вернемся к его философии. В чем для нас смысл его предостережения? В том, что музыка (и как искусство, и как одна из космических сил) сама по себе — начало хаотическое, а не творческое. Сила женственная — она должна быть обуздана, приведена к покорству. Она становится плодотворной только если ей противопоставлена вся неумолимая, мужественная ясность расчленяющего разума и законодательствующей воли.
Но музыка как самодовлеющее искусство чистого звука, музыка, переставшая повиноваться и служить жизни, — губительна. Это — развоплощенный и соблазнительный мир; это начало вампирическое, высасывающее кровь из жизни.
Она будит и доводит до последнего напряжения страстные и героические энергии, скрытые в нас?
Да, но пробудив, сама же их вырывает без остатка, отводит из жизни в пустоту.
Из концертного зала мы выходим опустошенными и глухими к действительности. Достаточно одного часа, чтобы вызвать в нас и разрядить в ослепительной и бесплодной вспышке годами накопленную энергию, — накопленную для жизни, для дела.
Музыка, в какие бы строгие и мудрорасчлененные формы она ни облекалась, всегда поет «про древний хаос, про родимый».
Горе культурам и искусствам, когда в них музыкант вытесняет зодчего.
«Cave musicam!»
Паскаль и трагедия
Пеги рассказывает где-то следующую легенду про св. Людовика де Гонзаго. Однажды во время перемены во дворе семинарии Людовик играл в мяч. В это время его товарищи предавались традиционной забаве, испытующей одновременно и мудрость и благочестие участников: «что сделал бы ты, если бы узнал, что через полчаса наступит Страшный Суд?» — таков был вопрос, на который надлежало ответить каждому. Одни говорили, что предались бы молитвам, другие — самобичеванию. «А как поступил бы ты?» — спросили у Людовика. «Я? — я продолжал бы играть в мяч».

Макс Нордау"Вырождение. Современные французы."Имя Макса Нордау (1849—1923) было популярно на Западе и в России в конце прошлого столетия. В главном своем сочинении «Вырождение» он, врач но образованию, ученик Ч. Ломброзо, предпринял оригинальную попытку интерпретации «заката Европы». Нордау возложил ответственность за эпоху декаданса на кумиров своего времени — Ф. Ницше, Л. Толстого, П. Верлена, О. Уайльда, прерафаэлитов и других, давая их творчеству парадоксальную характеристику. И, хотя его концепция подверглась жесткой критике, в каких-то моментах его видение цивилизации оказалось довольно точным.В книгу включены также очерки «Современные французы», где читатель познакомится с галереей литературных портретов, в частности Бальзака, Мишле, Мопассана и других писателей.Эти произведения издаются на русском языке впервые после почти столетнего перерыва.

В книге представлено исследование формирования идеи понятия у Гегеля, его способа мышления, а также идеи "несчастного сознания". Философия Гегеля не может быть сведена к нескольким логическим формулам. Или, скорее, эти формулы скрывают нечто такое, что с самого начала не является чисто логическим. Диалектика, прежде чем быть методом, представляет собой опыт, на основе которого Гегель переходит от одной идеи к другой. Негативность — это само движение разума, посредством которого он всегда выходит за пределы того, чем является.

В Тибетской книге мертвых описана типичная посмертная участь неподготовленного человека, каких среди нас – большинство. Ее цель – помочь нам, объяснить, каким именно образом наши поступки и психические состояния влияют на наше посмертье. Но ценность Тибетской книги мертвых заключается не только в подготовке к смерти. Нет никакой необходимости умирать, чтобы воспользоваться ее советами. Они настолько психологичны и применимы в нашей теперешней жизни, что ими можно и нужно руководствоваться прямо сейчас, не дожидаясь последнего часа.

На основе анализа уникальных средневековых источников известный российский востоковед Александр Игнатенко прослеживает влияние категории Зеркало на становление исламской спекулятивной мысли – философии, теологии, теоретического мистицизма, этики. Эта категория, начавшая формироваться в Коране и хадисах (исламском Предании) и находившаяся в постоянной динамике, стала системообразующей для ислама – определявшей не только то или иное решение конкретных философских и теологических проблем, но и общее направление и конечные результаты эволюции спекулятивной мысли в культуре, в которой действовало табу на изображение живых одухотворенных существ.
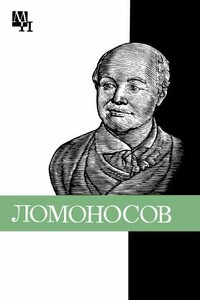
Книга посвящена жизни и творчеству М. В. Ломоносова (1711—1765), выдающегося русского ученого, естествоиспытателя, основоположника физической химии, философа, историка, поэта. Основное внимание автор уделяет философским взглядам ученого, его материалистической «корпускулярной философии».Для широкого круга читателей.

В монографии на материале оригинальных текстов исследуется онтологическая семантика поэтического слова французского поэта-символиста Артюра Рембо (1854–1891). Философский анализ произведений А. Рембо осуществляется на основе подстрочных переводов, фиксирующих лексико-грамматическое ядро оригинала.Работа представляет теоретический интерес для философов, филологов, искусствоведов. Может быть использована как материал спецкурса и спецпрактикума для студентов.