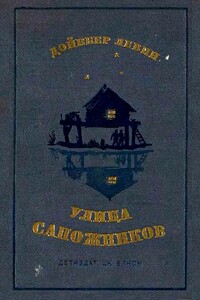Федька - [6]
Вдруг Сорока замолчал. Лежал, приподняв колени, закинув руки за голову, смотрел в небо.
— Глянь-ка, — тихо сказал он. — Звезда.
Мишка тоже посмотрел вверх.
— И верно, звезда.
— Вот полететь бы туда, — сказал Сорока. — Узнать бы, что там.
— А что там? — сказал Мишка. — Ничего там нет.
— Не-ет. Там — в книжках-то пишут — тоже люди водятся. Вроде нас.
— Брехня, — сказал Мишка. — Брехня, Вася. Кабы там люди были, они бы плевали на нас.
Сорока перекинулся со спины на живот.
— Федор, — сказал он, — случаем не знаешь, когда дурак умен бывает?
— Нет, — сказал Федька, — не знаю.
— А когда спит.
— Ладно, — сказал Мишка, — помалкивай.
Уложил Сорока Федьку, как и накануне, на тачанку. Накрыл буркой, кожанкой, ковром.
— Тепло?
— Тепло, — сказал Федька.
— А каши бы еще не поел?
— Не.
— Выходит — и сыт, и пьян, и нос в табаке?
Федька ухмыльнулся.
— А ты, видать, веселый.
— Ого! Веселей, брат, меня только попова попадья, и то во хмелю!
Стреляют? Снится? Федька откинул бурку, сел. Увидел — неподалеку, на пригорке, стоит пулемет, — его почему-то сняли с тачанки, — у пулемета лежат Сорока и Мишка, а по дороге к усадьбе, стреляя на ходу, отстреливаясь, бегут какие-то люди.
«Белые!»
Федька скатился с тачанки, подбежал к Сороке, рванул его за рукав.
— Жарь!
Сорока, не оборачиваясь, тыльной стороной ладони хлопнул его по плечу.
— Ложись!
— Жарь ты! — крикнул Федька.
— Это по своим-то? — сказал Сорока. — Голова!
Тут только Федька заметил, что бегут-то свои, дозорные. А вот за ними, нагоняя, скачут белые, белый разъезд.
— Ой! — испугался Федька. — Догонят!
— Тихо! — сказал Сорока.
— Догонят! — прохныкал Федька. — Порубят!
— Тихо, говорю!
Вдруг у самых ворот дозорные пропали. Залегли, должно быть.
— Ну, вот! — Сорока припал к пулемету, открыл огонь. — Ну, вот!
Белые приостановились. Повернули. Нахлестывая коней, карьером пустились по целине, через балку, в лес.
— Ну, вот! — сказал Сорока. Глянул на Федьку. Усмехнулся. — Видал?
— Видал.
— То-то!
— По ко-ням! — раздался голос комэска Давыдова.
— По ко-ням! — подхватили взводные. — По ко-ням!
— Чего это? — сказал Федька.
Сорока поспешно встал.
— Одевайсь! Выступаем!
Глава третья
И пошли для Федьки боевые дни.
Шли ночи и дни. Ночи в переходах. Дни в боях.
Вокруг, во все концы, лежала родная земля: поля, долины, холмы, леса.
И день и ночь над полями, над лесами стоял гул канонады. Слышался топот копыт. Фыркали кони. Тарахтели тачанки. День и ночь по дорогам, то в одиночку, то лавой, носились всадники, скакали верховые.
Первая Конная шла на прорыв.
И вот постепенно Федька узнал, полюбил и дым костра на коротком привале, и запах утренней росы после ночного перехода, и грохот боя, и свист пули, и — вечерами — зарево далекого пожара в степи.
Шли боевые дни.
Утро выдалось тихое, ясное. Солнце, пробиваясь сквозь листву, золотило влажные стволы. Над головой было небо, а на небе — тучка, круглая, как орех. И остро пахло хвоей и смолой.
Эскадрон стоял в лесу. А за лесом — в поле — шел бой. Ухали орудия. Свистели пули. И то тут, то там, вдруг нарастая и так же обрываясь, волной вздымалось гулкое «ур-ра!»
Бой приближался.
«Жмут наших! — думал Федька. — Худо!»
Бойцы, чуть подавшись вперед, сидели молча, не дыша. Кони настороженно прядали ушами, тревожились. Ждали приказа выступать. А приказа все не было.
«Чего он там? — думал Федька о командире. — Заснул?»
Командир, Давыдов, стоял на опушке, сумрачный, недвижный. Молчал. Рядом стоял комиссар. И тоже молчал.
«Эх! — думал Федька. — Ударить бы!»
Вдруг Давыдов вскочил на коня. Обернулся. Махнул рукой. Что-то крикнул. Федька не расслышал что — кто-то схватил его за плечо, и над самым ухом раздался голос Сороки:
— Ходу!
Федька привстал. Подхватил вожжи. Взвыл тонким, не своим голосом:
— Но-о! Пошли!
Вылетели на опушку. За опушкой открылось широкое поле. На поле шел бой. Ухали орудия. Рвались гранаты, вздымая черную землю. Цепи белых с криком скатывались с далекого холма: «Ур-ра!» — «Сабли к бою!» пропел где-то голос Давыдова. «Ходу! — кричал Сорока. — Ходу!» Но Федька ничего не видел, не слышал. Он как бы ослеп, оглох. Ему в лицо бил ветер. Под ногами стремительно убегала земля. А перед глазами, как в тумане, не то близко, не то далеко, маячили белые спины коней.
— Давай! — не своим голосом кричал он и что силы рвал вожжи. — Давай, давай!
Свернули с дороги. Пошли целиной. Тачанку подкидывало, кренило влево, вправо. Но Федька не убавлял ходу.
— Давай, давай!
И вдруг — совсем близко — увидел белых. Они густо облепили невысокий покатый холм и, припав к земле, торопливо и часто стреляли. Федька с ходу направил тачанку прямо на них.
— Куда? — крикнул Сорока. — Заворачивай!
И только Федька завернул коней, как услыхал за спиной треск пулемета и быстрый прерывистый голос Сороки:
— Мишка, ленту!
Когда Федька оглянулся, белых уже не было на холме — они, отстреливаясь, уходили к селу, — вдали виднелось какое-то село, — а за ними, сверкая на солнце сталью клинков, неслись бойцы второго эскадрона.
Сорока откинул на затылок буденновку. Рукавом рубахи смахнул пот с лица.
— Шабаш! — сказал он. — Закуривай!
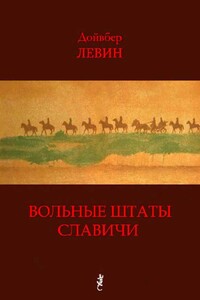
Дойвбера Левина (1904–1941) называют «самым забытым» из обэриутов. Он был ближайшим соратником Д. Хармса, А. Введенского, И. Бахтерева — но все его обэриутские сочинения пошли на растопку печей в блокадном Ленинграде, а сам писатель погиб в бою на Ленинградском фронте,И все же Левин оставил несколько книг гротескной, плотно написанной прозы, рисующей быт еврейских местечек накануне и во время революции и гражданской войны. Как и прочие обэриуты, писатель вкладывал в свои повести, формально причислявшиеся к детской литературе, совершенно не «детское» содержание: кровавая метель исторического катаклизма, зловеще-абсурдная речь и вещие сны…Произведения Дойвбера Левина не переиздавались с 1930-х гг.
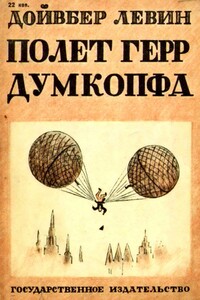
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
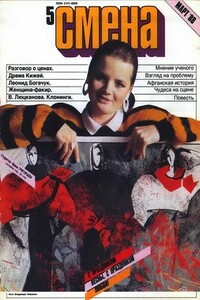
До прилета санитарного борта несколько часов, а раненых ребят нужно отвлечь от боли и слабости, чтобы они дождались рейса домой. И медсестра Лена берет в руки гитару…
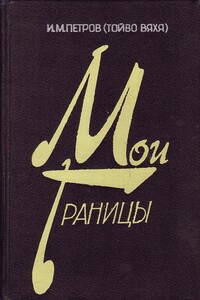
Повесть «Второй эшелон» и рассказы «След войны» посвящены Великой Отечественной войне. За скупыми, правдивыми строками этой книги встает революционная эпоха, героическая история нашей страны.
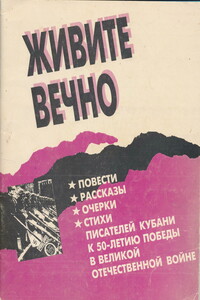
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
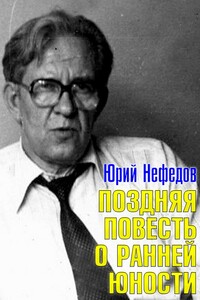
В биографических очерках рассказывается о трудном детстве, о войне и о службе в армии после нее. Главным в жизни автора было общение с людьми того исторического времени: солдатами и офицерами Красной Армии, мужественно сражавшимися на фронтах Великой Отечественной войны и беззаветно служившими великой Родине.Книга рассчитана на широкий круг читателей.
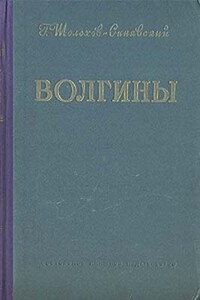
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
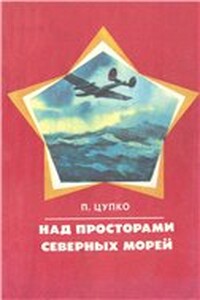
Автор — морской летчик. В своей книге он рассказывает о товарищах, которые во время Великой Отечественной войны принимали участие в охране конвоев, следовавших в наши порты с военными грузами для Советской Армии.