Фантики - [7]
Значительность охотничьего мотива намекает на подлинную драму перовского полотна. Она, если присмотреться к этому таинственному холсту, вовсе не сводится к водевилю, каким поколения учителей тешили школьников. Перов срифмовал свою картину с тремя видами живописи, которые друг с другом не сливаются, а стыкуются, причем так, что видны швы. Задник отдан пейзажу – дикому, неочеловеченному, безнадежно холодному и неприютному. Это – зона доисторической природы, еще не тронутой нашей рукой. Здесь водятся птицы, но могли бы и птеродактили. В центре картина переходит в жанр, то есть, как тогда его определяли, в “сцену из текущей жизни”.
Участвующие в ней лица представляют три возраста и, судя по наряду, три сословия провинциальной России. Это – мужик в армяке, мещанин в картузе и помещик, одетый в пальто на стеганой подкладке и обутый в английские – веллингтоновские – сапоги. Как положено в просветительской по происхождению передвижнической живописи, герои картины не только люди, но и типы. В театре таким дают говорящие фамилии. Передний план Перов отвел натюрморту. Тщательно, по-голландски, выписывая мех и перья, художник демонстрирует выучку и рассказывает притчу. В ней изображен путь от живой природы к мертвой, который благодаря охотникам проделал зритель: было болото, будет ужин. Перов, даже если и не вникать в сюжет, все равно окажется странным художником, ибо он, похоже, не любил краски. Критики писали, что “перовская палитра напоминала цветом овчинный полушубок”, говоря по-нашему – дубленку. Одинаково ржавый колорит лишает природу наряда, а жизнь – праздника. Но именно такой невзрачный, как кухонное полотенце, мир проще любить. Он мало требует, ничего не обещает и уже потому дает то, на что другие не претендуют: уют знакомой, как бородатый анекдот или детская сказка, истории. Другим она неинтересна, а мы ее сто раз слышали. Как раз этим она нам если и не дорога, то необходима. Оставшись напрочь неизвестным для чужих, Перов так намозолил глаза своим, что без него русская жизнь кажется невозможной – как без хлеба, без старых фильмов, без песен Исаковского. Фольклором становится искусство, которое не поднимается над народом и не выходит из него, а растворяется без следа. Именно это случилось с “Охотниками на привале”, русской народной картиной, написанной внебрачным сыном остзейского барона Крюденера.
Путь наверх
Репин
Илья Репин
Бурлаки на Волге.
1870–1873
Холст, масло. 131,5 х 281 см
Государственный Русский музей,
Санкт-Петербург
Угодив на один прием с директором музея Гуггенхайма Томасом Кренцем, который от своего русского происхождения сохранил только православие, я наконец задал вопрос, мучивший меня треть века:
– Почему бы вам не устроить выставку нашей живописи?
– Мы уже, – удивился Кренц.
– Я имею в виду – без Малевича.
Видимо, не только я задавал ему этот дерзкий вопрос, потому что некоторое время спустя, когда Нью-Йорк обклеили афишами с “Незнакомкой” Крамского, спираль Гуггенхайма от вестибюля до чердака заполнило отечественное искусство, начиная с икон и кончая Куликом. Зрителей, впрочем, больше всего привлекала середина – то, чего мы стеснялись, а они не видели: передвижники. Прежде всего – “Бурлаки на Волге”. Очевидный гвоздь выставки, репинский холст вызвал оживленный интерес и неожиданную реакцию. Доброжелательный критик назвал картину “гибридом Микеланджело с фоторепортажем”, глупый —“повседневной сценкой из русской жизни”. “Хорошо еще, что не “Сахаров в Горьком”, – подвел я итог американским отзывам и отправился на встречу со старыми знакомыми. Несмотря на буднее утро, а точнее, именно из-за него, в музее была толпа, сплошь состоящая из школьников, которых, как нас когда-то, учили жизни в ее правдивом отражении. К Репину очередь была длиннее, чем к туалету. Отстояв свое, я оказался наедине с бурлаками, если не считать отставшего от экскурсии негритенка лет восьми. Насмотревшись на картину вдосталь, он смерил меня взглядом и, решив, что я подхожу для вопроса, смело задал его:
– Никак не пойму, мистер, – сказал он, – which one is Jesus?
Не найдя Христа, я пересчитал одиннадцать бурлаков и нашел, что они и впрямь напоминают апостолов: грубые, сильные люди, живущие у воды и объединенные общим делом. Как матрешки, бурлаки только кажутся чисто русским явлением. До тех пор, пока не изобрели надежные бензиновые моторы для небольших судов, они использовались и в Западной Европе (самые известные – “Трое в лодке, не считая собаки”). Репина, впрочем, интересовали не транспортные, а национальные проблемы. В бурлаках он искал родную экзотику. В сущности, это было не народническое, как у Некрасова, а колониальное, как у Верещагина, искусство. Поэтому Репин собирался в экспедицию, словно Стенли в Африку: “Самую большую тяжесть в моем чемодане составляли спиртовки, кастрюли и закупленные в достаточном количестве макароны, сушки, рис и бисквиты “Альберт”. Мы ехали в дикую, совершенно неизвестную миру область Волги, где, конечно, ничего подобного еще не знали”.
Реальность не обманула ожиданий: одни крестьяне принимали приезжих художников за иностранцев, другие – за чертей. Даже их русский язык не поддавался взаимной расшифровке. Характерно, что вместо припасенных книг Писарева и Тургенева художники взялись за “Илиаду”. Попав на Волгу, Репин обнаружил, что образование лишает нас прямого доступа к той вневременной, доисторической ментальности, где хранятся национальные архетипы. Надеясь найти их в бурлаках, Репин, как позже Блок, назвал русских скифами и изобразил первобытной ордой. В этом нет ничего обидного, ибо, скованные общей уздой, они, вопреки ей, сохранили предельное своеобразие черт. У Репина все бурлаки – разные. В этом их главное достоинство и разительное отличие от оседлых мужиков, из поколения в поколение зарывающих жизнь в землю. Так хоровая, как тогда говорили, картина Репина стала самым известным в России групповым портретом, но – в отличие, скажем, от “Ночного дозора” – неизвестно кого. Простой, не умеющий и не желающий себя выразить человек всегда задавал художнику загадку. Поэтому о репинских бурлаках мы знаем лишь то, что рассказал сам автор – не на холсте красками, а словами в мемуарах.
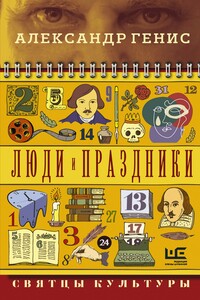
Александр Генис ("Довлатов и окрестности", "Обратный адрес", "Камасутра книжника") обратился к новому жанру – календарь, или "святцы культуры". Дни рождения любимых писателей, художников, режиссеров, а также радио, интернета и айфона он считает личными праздниками и вставляет в список как общепринятых, так и причудливых торжеств. Генис не соревнуется с "Википедией" и тщательно избегает тривиального, предлагая читателю беглую, но оригинальную мысль, неожиданную метафору, незамусоленную шутку, вскрывающее суть определение.

В новую книгу известного писателя, мастера нон-фикшн Александра Гениса вошли филологический роман «Довлатов и окрестности» и вдвое расширенный сборник литературных портретов «Частный случай». «Довлатов и окрестности» – не только увлекательное повествование о его главном герое Сергее Довлатове (друге и коллеге автора), но и оригинальный манифест новой словесности, примером которой стала эта книга. «Частный случай» собрал камерные образцы филологической прозы, названной Генисом «фотографией души, расположенной между телом и текстом».

«Русская кухня в изгнании» — сборник очерков и эссе на гастрономические темы, написанный Петром Вайлем и Александром Генисом в Нью-Йорке в середине 1980-х., — это ни в коем случае не поваренная книга, хотя практически каждая из ее глав увенчана простым, но изящным и колоритным кулинарным рецептом. Перед нами — настоящий, проверенный временем и собравший огромную армию почитателей литературный памятник истории и культуры. Монумент целой цивилизации, сначала сложившейся на далеких берегах благодаря усилиям «третьей волны» русской эмиграции, а потом удивительно органично влившейся в мир и строй, что народился в новой России.Вайль и Генис снова и снова поражают читателя точностью наблюдений и блестящей эрудицией.

Новая книга Александра Гениса не похожа на предыдущие. Литературы в ней меньше, жизни больше, а юмора столько же. «Обратный адрес» – это одиссея по архипелагу памяти. На каждом острове (Луганск, Киев, Рязань, Рига, Париж, Нью-Йорк и вся Русская Америка) нас ждут предки, друзья и кумиры автора. Среди них – Петр Вайль и Сергей Довлатов, Алексей Герман и Андрей Битов, Синявский и Бахчанян, Бродский и Барышников, Толстая и Сорокин, Хвостенко и Гребенщиков, Неизвестный и Шемякин, Акунин и Чхартишвили, Комар и Меламид, «Новый американец» и радио «Свобода».

“Птичий рынок” – новый сборник рассказов известных писателей, продолжающий традиции бестселлеров “Москва: место встречи” и “В Питере жить”: тридцать семь авторов под одной обложкой. Герои книги – животные домашние: кот Евгения Водолазкина, Анны Матвеевой, Александра Гениса, такса Дмитрия Воденникова, осел в рассказе Наринэ Абгарян, плюшевый щенок у Людмилы Улицкой, козел у Романа Сенчина, муравьи Алексея Сальникова; и недомашние: лобстер Себастьян, которого Татьяна Толстая увидела в аквариуме и подружилась, медуза-крестовик, ужалившая Василия Авченко в Амурском заливе, удав Андрея Филимонова, путешествующий по канализации, и крокодил, у которого взяла интервью Ксения Букша… Составители сборника – издатель Елена Шубина и редактор Алла Шлыкова.

Эта книга посвящена эпохе 60-х, которая, по мнению авторов, Петра Вайля и Александра Гениса, началась в 1961 году XXII съездом Коммунистической партии, принявшим программу построения коммунизма, а закончилась в 68-м оккупацией Чехословакии, воспринятой в СССР как окончательный крах всех надежд. Такие хронологические рамки позволяют выделить особый период в советской истории, период эклектичный, противоречивый, парадоксальный, но объединенный многими общими тенденциями. В эти годы советская цивилизация развилась в наиболее характерную для себя модель, а специфика советского человека выразилась самым полным, самым ярким образом.
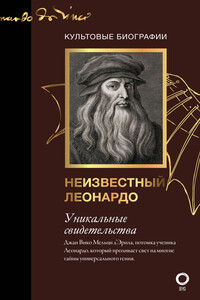
В своей книге прямой потомок Франческо Мельци, самого близкого друга и ученика Леонардо да Винчи — Джан Вико Мельци д’Эрил реконструирует биографию Леонардо, прослеживает жизнь картин и рукописей, которые предок автора Франческо Мельци получил по наследству. Гений живописи и науки показан в повседневной жизни и в периоды вдохновения и создания его великих творений. Книга проливает свет на многие тайны, знакомит с малоизвестными подробностями — и читается как детектив, основанный на реальных событиях. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

В настоящей монографии представлен ряд очерков, связанных общей идеей культурной диффузии ранних форм земледелия и животноводства, социальной организации и идеологии. Книга основана на обширных этнографических, археологических, фольклорных и лингвистических материалах. Используются также данные молекулярной генетики и палеоантропологии. Теоретическая позиция автора и способы его рассуждений весьма оригинальны, а изложение отличается живостью, прямотой и доходчивостью. Книга будет интересна как специалистам – антропологам, этнологам, историкам, фольклористам и лингвистам, так и широкому кругу читателей, интересующихся древнейшим прошлым человечества и культурой бесписьменных, безгосударственных обществ.

Книга посвящена особому периоду в жизни русского театра (1880–1890-е), названному золотым веком императорских театров. Именно в это время их директором был назначен И. А. Всеволожской, ставший инициатором грандиозных преобразований. В издании впервые публикуются воспоминания В. П. Погожева, помощника Всеволожского в должности управляющего театральной конторой в Петербурге. Погожев описывает театральную жизнь с разных сторон, но особое внимание в воспоминаниях уделено многим значимым персонажам конца XIX века. Начав с министра двора графа Воронцова-Дашкова и перебрав все персонажи, расположившиеся на иерархической лестнице русского императорского театра, Погожев рисует картину сложных взаимоотношений власти и искусства, остро напоминающую о сегодняшнем дне.

«Медный всадник», «Витязь на распутье», «Птица-тройка» — эти образы занимают центральное место в русской национальной мифологии. Монография Бэллы Шапиро показывает, как в отечественной культуре формировался и функционировал образ всадника. Первоначально святые защитники отечества изображались пешими; переход к конным изображениям хронологически совпадает со временем, когда на Руси складывается всадническая культура. Она породила обширную иконографию: святые воины-покровители сменили одеяния и крест мучеников на доспехи, оружие и коня.
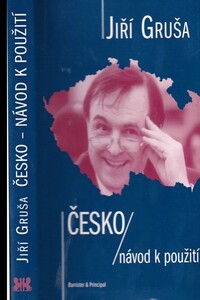
Это книга о чешской истории (особенно недавней), о чешских мифах и легендах, о темных страницах прошлого страны, о чешских комплексах и событиях, о которых сегодня говорят там довольно неохотно. А кроме того, это книга замечательного человека, обладающего огромным знанием, написана с с типично чешским чувством юмора. Одновременно можно ездить по Чехии, держа ее на коленях, потому что книга соответствует почти всем требования типичного гида. Многие факты для нашего читателя (русскоязычного), думаю малоизвестны и весьма интересны.

Книга Евгения Мороза посвящена исследованию секса и эротики в повседневной жизни людей Древней Руси. Автор рассматривает обширный и разнообразный материал: епитимийники, берестяные грамоты, граффити, фольклорные и литературные тексты, записки иностранцев о России. Предложена новая интерпретация ряда фольклорных и литературных произведений.