Фанфарон - [10]
– Что ж, и жениться думаете?
– Конечно-с, тем более что это такая партия, о которой я не смел бы подумать, если бы не случай.
– Дай бог, – говорю, – Дмитрий Никитич, только смотри, есть поговорочка, которую твой покойный отец часто говаривал: «Девушки хороши, красные пригожи; ах, откуда же берутся злые жены?»
– Эта поговорка, – говорит, – дядюшка, никоим образом не может отнестись ко мне!
– Не хвастай, – говорю, – понравится сатана лучше ясного сокола; в тех местах женщины на это преловкие, часто вашу братью, молоденьких офицеров, надувают; а если ты думаешь жениться, так выбери-ка лучше здесь, на родине, невесту; в здешней палестине мы о каждой девушке знаем – и семейство ее, и род-то весь, и состояние, и характер, пожалуй.
– Очень вам благодарен, – говорит, – дядюшка, за ваш совет и вполне уверен, что вами руководствует мне желание добра, но вы меня совсем не поняли. Обмануться я не могу, потому что я женюсь с расчетцем. Нынче уж, – говорит, – дядюшка, над любовью смеются, а всем надобно злата, злата и злата. Точно так и я. У меня все предусмотрено: кроме ее прекрасного воспитания, ума, доброты ангельской, кроме, наконец, обыкновенного приданого, у ней миллионное наследство – в деле. Много ли у вас таких невест?
– В делах-то, пожалуй, – смеюсь я ему, – и у наших лежат миллионы, да дела-то – вещь темная…
– А вот какая, – говорит, – дядюшка, темная вещь, это мне говорил один тамошний стряпчий-законник, который на этих делах зубы приел. Он говорил, что на охотника за это дело сейчас можно дать двести тысяч.
– Хорошо, – говорю, – значит, дело. Только когда и скоро ли оно кончится?
– В этом-то, – говорит, – и фортель весь заключается: старик засиделся в деревне, обленился; ему страшно подумать тронуться в Петербург, и дело таким образом стоит, не двигается, но если оно попадет в руки человека с энергией, так ему будет недурно. Вот видите, – говорит, – дядюшка, как у меня далеко все рассчитано… Стало быть, я не слепой обожатель!
– Вижу, – говорю, – что у вас в голове все рассчитано, а на деле-то, мне кажется, так вас либо надувают, либо дурачат.
– Время-с, – говорит, – все это покажет.
– Конечно, – говорю, – время покажет…
И уж мне, знаете, стал надоедать этот спор.
– Кончим, – говорю, – мой милый Дмитрий Никитич, наши прения, которые ни к чему не поведут. Мне тебя не убедить, да и ты меня тоже не переуверишь; останемся каждый при своем.
Так мы с ним и поспорили; вижу, что мои замечания ему не очень понутру: нахмурился, ушел и с полчаса ходил молча по залу. Вечером, однако, приехала одна дама с дочерьми, он сейчас с ними познакомился и стал любезничать с барышнями, сел потом за фортепьяно, очень недурно им сыграл, спел, словом, опять развеселился. После ужина, впрочем, стал прощаться, чтоб ехать домой. Я останавливаю его ночевать.
– Нет уж, – говорит, – дядюшка, отпустите меня; я приехал на такое короткое время, надо с матушкой побыть.
– А в таком случае, – говорю, – не смею останавливать, поезжайте.
– У меня, впрочем, – говорит, – дядюшка, до вас просьба есть.
Согрешил! Думаю, верно, хочет денег просить.
– Какая же это просьба? – говорю не совсем уж этаким приятным голосом.
– Я, – говорит, – дядюшка, желаю остальную свободную часть имения заложить, и как это зависит от здешних судов, так нельзя ли вам похлопотать, чтоб мне скорее это сделали?
– Это, – говорю, – Дмитрий Никитич, ты таким-то манером думаешь устраивать именье?
– Невозможно, – говорит, – дядюшка, при таком случае, как женитьба, о которой я вам говорил; не могу же я быть совершенно без денег.
– Послушай, – говорю, – Дмитрий Никитич, исполни ты хоть один раз в жизни мою просьбу и поверь, что сам за то после будешь благодарить: не закладывай ты именья, а лучше перевернись как-нибудь. Залог для хозяев, которые на занятые деньги покупают именья, благодетелен; но заложить и деньги прожить – это хомут, в котором, рано ли, поздно ли, ты затянешься. О тебе я не говорю: ты мужчина, проживешь как-нибудь; но я боюсь за мать твою, ты оставишь ее без куска хлеба.
– Помилуйте, дядюшка, неужели, – говорит, – я не понимаю священной обязанности сына!
– Верю, – говорю, – друг мой, что понимаешь, но скажу тебе откровенно, потому что желаю тебе добра и вижу в тебе сына моего родного брата, что ты еще молод, мотоват и ветрен.
– Очень грустно, дядюшка, слышать, что вы меня так понимаете, – возражает он мне.
– Ну, мой милый, – говорю, – хоть сердись на меня, хоть нет; а я говорю, что думаю, и не буду тебе содействовать в залоге именья: делай помимо меня, а я умываю руки.
На эти слова мои он расшаркался и уехал. Впрочем, я, рассчитав, знаете, что скоро ему к отъезду, и как бы вроде того, чтоб заплатить визит, еду к ним. Подъезжаю и вижу, что дорожная повозка у крыльца уж стоит: укладываются; спрашиваю:
– Где барыня?
– В спальне у себя, не так здорова.
– А молодой барин?
– У них сидят-с.
Вхожу. Она сидит на постели, а он у окошка. Я чуть не вскрикнул: представьте себе, в какие-нибудь эти полтора года, которые я ее не видал, из этакой полной и крепкой еще женщины вижу худую, сморщенную, беззубую старушонку.

«Если вам когда-нибудь случалось взбираться по крутой и постоянно чем-то воняющей лестнице здания присутственных мест в городе П-е и там, на самом верху, повернув направо, проникать сквозь неуклюжую и с вечно надломленным замком дверь в целое отделение низеньких и сильно грязноватых комнат, помещавших в себе местный Приказ общественного призрения, то вам, конечно, бросался в глаза сидевший у окна, перед дубовой конторкой, чиновник, лет уже далеко за сорок, с крупными чертами лица, с всклокоченными волосами и бакенбардами, широкоплечий, с жилистыми руками и с более еще неуклюжими ногами…».

«Утро. Большой кабинетъ. Передъ письменнымъ столомъ сидитъ Владимiръ Ивановичъ Вуландъ, плотный, черноволосый, съ щетинистыми бакенбардами мужчина. Онъ, съ мрачнымъ выраженiемъ въ глазахъ, какъ бы просматриваетъ разложенныя передъ нимъ бумаги. Напротивъ его, на диванѣ, сидитъ Вильгельмина Ѳедоровна (жена его), высокая, худая, белокурая нѣмка. Она, тоже съ недовольнымъ лицомъ, вяжетъ какое-то вязанье…».

«Нижеследующая сцена происходила в небольшом уездном городке Ж.. Аполлос Михайлыч Дилетаев, сидя в своей прекрасной и даже богато меблированной гостиной, говорил долго, и говорил с увлечением. Убедительные слова его были по преимуществу направлены на сидевшего против высокого, худого и косого господина, который ему возражал…».

Известный роман выдающегося писателя, посвященный русской общественной жизни 60-х годов XIX века, проникнутый идеями демократизма, добра и человечности. Произведение это получило высокую оценку Л.Н.Толстого.

«Зиму прошлого года я прожил в деревне, как говорится, в четырех стенах, в старом, мрачном доме, никого почти не видя, ничего не слыша, посреди усиленных кабинетных трудов, имея для своего развлечения одни только трехверстные поездки по непромятой дороге, и потому читатель может судить, с каким нетерпением встретил я весну…».

Роман А.Ф.Писемского «Тысяча душ» был написан больше ста лет тому назад (1853—1858). Но давно ушедший мир старой – провинциальной и столичной – России, сохраненный удивительной силой художественного слова, вновь и вновь оживает перед читателем романа. Конечно, не только ради удовлетворения «исторического» любопытства берем мы в руки эту книгу. Судьба главного героя романа Калиновича – крах его «искоренительных» деяний, бесплодность предпринятой им жестокой борьбы с прочно укоренившимся злом – взяточничеством, лихоимством, несправедливостью, наконец, личная его трагедия – все это по-своему поучительно и для нас.
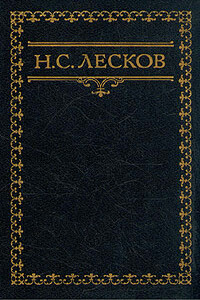
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
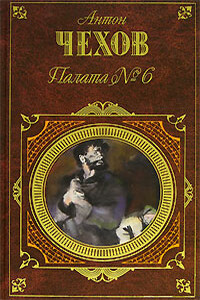
В книгу вошли повести А.П.Чехова (1860–1904) «Степь», «Палата № 6», «Дуэль», «Скучная история» и др. Мотивы тоски существования и гнетущей действительности, часто и пронзительно звучащие в повестях Чехова, оттеняют остроту и сложность переживаний их героев. Тонкий психолог и мастер подтекста, А.П.Чехов обнажает самые потаенные области сознания, создавая не спектакль персонажей-марионеток, но драматургию человеческих душ.
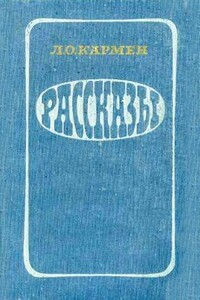
В Одессе нет улицы Лазаря Кармена, популярного когда-то писателя, любимца одесских улиц, любимца местных «портосов»: портовых рабочих, бродяг, забияк. «Кармена прекрасно знала одесская улица», – пишет в воспоминаниях об «Одесских новостях» В. Львов-Рогачевский, – «некоторые номера газет с его фельетонами об одесских каменоломнях, о жизни портовых рабочих, о бывших людях, опустившихся на дно, читались нарасхват… Его все знали в Одессе, знали и любили». И… забыли?..Он остался героем чужих мемуаров (своих написать не успел), остался частью своего времени, ставшего историческим прошлым, и там, в прошлом времени, остались его рассказы и их персонажи.
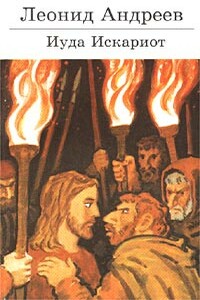
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.