Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования - [202]
Остальная жизнь или дух Москвы ничего не давал нам, кроме самодуров + взяточников + приказных — да еще поклонниц сумасшедшего Ивана Яковлевича[920]… Григорьев, как Дон-Кихот, не одну московскую Дульцинею мог принять за высокое идеальное создание [Он и не знал реальной Москвы — он то обожал ее бессознательно, то она становилась ему противна] — и наоборот — встретить идеал и оплевать его — или отнестись к нему с гамлетовским недоверием. Вот пока все, что могу я вам написать, — знаю, что это с моей стороны, быть может, дерзость непростительная, но то, что я писал к вам, — не новость… Если я был несправедлив к Григорьеву — то и он платил мне такою же несправедливостью… Так, например, в одной из статей своих он намекает, что мой идеал — ложь, которая ходит в виде женщины[921], — он сказал это по поводу стихотворения "Иногда":
Ложь иногда ходит в виде
Женщины милой и скромной.
Какой, дескать, легкий, пустой идеал у этого Полонского!
Не говоря уже о том, что все стихотворение не понято, — Григорьев как критик мог бы хоть вспомнить мою Аспазию — мой действительный идеал — Гражданку, не потерявшую женственности — окруженную изяществом и в то же время демократку по духу[922]…
Но довольно! — Повторяю, письмо мое Григорьева обидеть не может. Он уже вне всякой обиды… Если же оно вас обидит за него, то простите меня великодушно[923]…
Автограф // ЦНБ АН УССР. — III.17906.
Черновик и перебеленная копия // ИРЛИ. — 11769.XVIIIб16.
54. И. А. Шестаков — Н. Н. Страхову
<С.-Петербург> 2 июня <1865 г.>
Поездка моя в Воронеж, кажется, состоится; но я поеду 15 июня, а возвращусь 5 июля — как видите, время очень короткое. Поэтому я бы просил вас, если можно, устроить дело насчет сына Федора Михайловича в мою пользу. Мне кажется, что те три недели, которые я не буду в Петербурге, молодой человек, живя у нас, будет отдыхать, а там, когда я возвращусь, примется за дело. По словам вашим, за юношею не требуется такого надзора, чтобы он ходил со двора с провожатым; следовательно, он может жить у нас некоторое время и без меня. Впрочем, представляю усмотрению Федора Михайловича, но скажу, однако ж, что мне желательно было бы не упустить случая приобрести что-нибудь — в моем положении всякое подспорье — много значит[924]…
Автограф // ЦНБ АН УССР. — III.18770.
55. Э. Ф. Достоевская — А. П. Иванову
<С.-Петербург. Август-сентябрь 1865 г.>
Ваше письмо[925] ужасно обеспокоило меня, потому что при теперешних наших обстоятельствах именно только в некоторой мере несправедливых упреков со стороны людей, которых я издавна привыкла любить и уважать, я была бы в отчаянии, если б не могла объяснить их вашей отеческой заботливостью о своих детях, которые совершенно безвинно должны отчасти перенести постигнувшее нас несчастие. Мне, может быть, самой также не легка мысль, что мы послужили причиной такого несчастного события. Я уверена, что вы сами этому поверите, когда пройдет первая вспышка негодования на нас: ибо, по крайней мере, до сих пор я ничего не сделала, что могло бы заставить вас сомневаться в чести, совести и долге, к которым вы обращаетесь в своем письме ко мне[926]. Вероятно вы, как и многие, думаете, что у меня есть еще средства, скрытые мною от всех, по всей вероятности, — честнейшим и благороднейшим словом, что никаких средств нет, и если б Маша[927] не давала теперь уроков в институте, нам было бы нечего есть. Я это говорю вам для того, чтоб не было сомнения, что я, имея возможность выкупить акции, берегу свои средства и заставляю вас лишиться денег. При всем моем желании, чтобы родные не были вовлечены в наше горе, я, к несчастию, ничем не могу предотвратить того. Мне остается, правда, слишком небольшое утешение, что в этом несчастном деле я вовсе не так виновата, как вы думаете. Еще покойному мужу я советовала возвратить как можно скорей ваши акции, лишь только узнала, что они взяты у вас: я узнала об них гораздо позже, чем когда они были заложены, и потому что Михаил Михайлович в последнее время почти ничего не говорил мне ни о своих планах, ни о средствах к их выполнению. Когда, по смерти его, акции были свободны, я никак не хотела пускать их в дело. Но так как все дела были <в> распоряжении у Федора Михайловича и все делалось по его внушениям и желанию, то и акции были снова заложены[928]. Тут я ничего не могла сделать: потому что, доверившись ему, я почти нисколько не вмешивалась в его распоряжения. Конечно, ответственность и на меня я этого не отвергаю, — но падает потому только, что журнал был собственностью нашего семейства. И я величайшим счастьем почитала бы для себя, если бы могла как-нибудь расквитаться с вами. Но у меня ничего нет. Могу ли я считать себя нравственно чистой в этом горестном событии, — решите сами.
О самом же деле я должна вам сказать, что если перезаложить акции, то это будет стоить денег, которых у меня теперь решительно нет. Если же денег не платить, то на акциях будут только накопляться деньги, которые, пожалуй, покроют самый капитал. О Федоре же Михайловиче ни слуху, ни духу. Обещал писать письмо к 10-му числу, но до сих пор никаких известий нет от него

«Время идет не совсем так, как думаешь» — так начинается повествование шведской писательницы и журналистки, лауреата Августовской премии за лучший нон-фикшн (2011) и премии им. Рышарда Капущинского за лучший литературный репортаж (2013) Элисабет Осбринк. В своей биографии 1947 года, — года, в который началось восстановление послевоенной Европы, колонии получили независимость, а женщины эмансипировались, были также заложены основы холодной войны и взведены мины медленного действия на Ближнем востоке, — Осбринк перемежает цитаты из прессы и опубликованных источников, устные воспоминания и интервью с мастерски выстроенной лирической речью рассказчика, то беспристрастного наблюдателя, то участливого собеседника.

«Родина!.. Пожалуй, самое трудное в минувшей войне выпало на долю твоих матерей». Эти слова Зинаиды Трофимовны Главан в самой полной мере относятся к ней самой, отдавшей обоих своих сыновей за освобождение Родины. Книга рассказывает о детстве и юности Бориса Главана, о делах и гибели молодогвардейцев — так, как они сохранились в памяти матери.
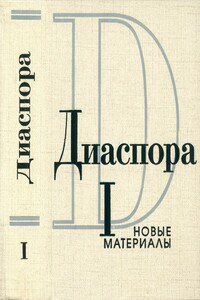
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Поразительный по откровенности дневник нидерландского врача-геронтолога, философа и писателя Берта Кейзера, прослеживающий последний этап жизни пациентов дома милосердия, объединяющего клинику, дом престарелых и хоспис. Пронзительный реализм превращает читателя в соучастника всего, что происходит с персонажами книги. Судьбы людей складываются в мозаику ярких, глубоких художественных образов. Книга всесторонне и убедительно раскрывает физический и духовный подвиг врача, не оставляющего людей наедине со страданием; его самоотверженность в душевной поддержке неизлечимо больных, выбирающих порой добровольный уход из жизни (в Нидерландах легализована эвтаназия)

Автор этой документальной книги — не просто талантливый литератор, но и необычный человек. Он был осужден в Армении к смертной казни, которая заменена на пожизненное заключение. Читатель сможет познакомиться с исповедью человека, который, будучи в столь безнадежной ситуации, оказался способен не только на достойное мироощущение и духовный рост, но и на тшуву (так в иудаизме называется возврат к религиозной традиции, к вере предков). Книга рассказывает только о действительных событиях, в ней ничего не выдумано.

У меня ведь нет иллюзий, что мои слова и мой пройденный путь вдохновят кого-то. И всё же мне хочется рассказать о том, что было… Что не сбылось, то стало самостоятельной историей, напитанной фантазиями, желаниями, ожиданиями. Иногда такие истории важнее случившегося, ведь то, что случилось, уже никогда не изменится, а несбывшееся останется навсегда живым организмом в нематериальном мире. Несбывшееся живёт и в памяти, и в мечтах, и в каких-то иных сферах, коим нет определения.