Европа - [19]
— У вас слишком богатое воображение, Эрика. Ваша матушка, вероятно, перепробовала все виды деятельности, а когда женщина перепробовала все, это значит, что-то одно она пропустила… Иначе ей не было бы нужды заниматься всем остальным. У нее были бы деньги.
…Когда-то именно это подтолкнуло его выбрать дипломатию: профессиональный долг не идти напролом, объезжать…
Они шли вдоль дороги, за ними, на приличном расстоянии, следовал «линкольн».
— Как бы там ни было, теперь уже дело сделано, — сказала Эрика. — Я упала с велосипеда, нет-нет, ничего серьезного, вы меня подобрали, привезли на свою виллу… Само собой, вы потеряли голову — я ведь неотразима, — вы разводитесь, женитесь на мне, и я становлюсь женой посла Франции… Бедная мама! Как она могла целых двадцать пять лет питать столь нелепую мечту в стиле романов с продолжением, неприемлемую даже для индийского кино?
— Нужно было как-то жить, Эрика. Речь не о том, насколько эта мечта абсурдна и неисполнима, а о том, что она помогает вам держать удар. Есть химеры, на которых держатся цивилизации, и есть истины, которые разрушили все до основания и ничего не сумели дать взамен… Как на Востоке, так и на Западе все, что выжило, что оказалось прогрессивно, выросло из снов. Именно поэтому, кстати сказать, глупо сегодня упрекать молодежь, исповедующую анархию, в том, что у них нет «программы». У них есть бесспорная программа: та, которую совершенно невозможно сформулировать и еще меньше — реализовать, но она может помочь сделать жизнь более достойной и продуктивной, учась на собственных ошибках. Думать, что можно спланировать цивилизацию, — вот что пагубно… Цивилизация, которая знает, куда она идет, это цивилизация, которая движется к провалу, потому что она исключает грядущий гений человека. Достаточно оглянуться на Историю, чтобы отметить, что все созданное человеком родилось из чего-то неопределенного. Нельзя экстраполировать семнадцатый век на двадцатый, пропустив Маркса, Ленина и Фрейда, то есть экстраполировать вообще нельзя. Цивилизованные люди — это те, кто пробует построить другую цивилизацию, не достигает цели и выбрасывает туда, вслед за своими неудачами, основы той новой цивилизации, которую им не удается строить осознанно…
XII
Несмотря на раскованную и непринужденную манеру вести себя, в глубине души Дантес стыдился того, как ловко удавалось ему поднимать разговор до уровня общих мест — чтобы избежать замешательства, вырастающего из слишком человеческих отношений. Эта молодая женщина, вышагивавшая с ним рядом, задела в нем самые чувствительные струны: потребность защищать, охранять, спасать. Никто и не вспоминал о Судьбе, когда она была настроена на счастье… В случае Эрики и ее матери речь шла даже не о том, чтобы исправить, — вернее, так как это было уже непоправимо, заслужить прощение за свою слабость, малодушие, в которых он начал обвинять себя, будучи еще совсем молодым, — но прежде всего отыскать возможность некой человеческой справедливости, открывающейся во всей своей ясности тому, что не есть ни справедливо, ни несправедливо, но просто слепо. В этой борьбе за честь против Судьбы не было иной победы, чем факт самой борьбы; это являлось понятием жизни, которая брала начало в мифах: строго говоря, она не значила ничего в терминах, которыми оперировали объективный анализ и реальность. Замысленный в этих терминах, европейский человек полностью умещался в своих снах и поддерживал с культурой те же отношения, что и с богами античности или с христианским небом. Это была такая Европа, где речь не шла о том, чтобы смотреть в корень поступка человека и делать выводы, исходя из этого строгого определения, — но, напротив, сначала замыслить человека, совершенно свободного от всего, в воображаемом измерении, и затем уже судить о материальных, реалистических, общественных целях этой свободной концепции. Дантес знал, насколько невелика возможность удовлетворить подобную требовательность, и чувствовал, как сам разрывается между культурой и обществом, между мифологической Францией де Голля и Францией королевской, с набитой мошной и торговлей оружием, той, которую он представлял за рубежом, между Европой, существовавшей лишь в нескольких ярких, но эфемерных вспышках сознания, и Европой Праги, музея восковых фигур, которую навязывали Съезду советских писателей, или той Европой, где французский рабочий тратит три часа ежедневно на то, чтобы добраться на работу и затем вернуться вечером домой, так что неудивительно, что шестьдесят пять процентов «самого высокоцивилизованного за всю историю» населения признают, что не прочитали ни одной книги. И наконец, люмпен-буржуазия вспоминала о культуре, лишь когда нужно было обеспечить свое алиби. Европа оставалась где-то «далеко», не связанная пуповиной с реальностью. Она не могла стать кормилицей для самой себя, разве только окунуться в культуру, как индуизм соприкасался со своими богами прямо в физической жизни тела, в самом дыхании. Европа? Да, были Ромен Роллан, Карл фон Оссецки, Валери, но они уже не обращались более к народу.
Они шли вдоль серой стены, являвшей взору результат работы прошедших столетий, выполненной так неровно, с полным отсутствием всякой симметрии, прямых линий, равных расстояний и правильных пропорций, работы, столь отличной от прочих творений Времени, тщательно вымеренных и рассчитанных во всех частях Солнечной системы, как вдруг Дантес, до сих пор не испытывавший ничего подобного, посреди бела дня почувствовал, что все вокруг устроено не так просто, и он уже вовсе не был уверен, что находится там, где полагал, то есть идет рядом с Эрикой вдоль стены. Это чувство, выразившееся сначала в неуверенности, а затем в ирреальности, само по себе было сомнительным и ирреальным, одновременно и по своей природе, и в своей длительности, и в течение некоторого времени, о котором он не мог бы сказать, исчислялось ли оно в секундах, минутах, часах или в какой-то совершенно иной системе измерения, элементы которой, ему неизвестные, ускользали от понимания, в веках или даже при абсолютном отсутствии какой бы то ни было системы и правил подсчета, так вот он как будто находился под действием наркотика, который был ему прописан, чтобы нейтрализовать действие Времени, пока он перемещается в другое место. Он уже не знал, состоялась ли встреча с Эрикой, или он только представлял себе ее, чтобы лучше к ней подготовиться, рисуя и повторяя ее без конца в своем воображении, воспаленном этими непрерывными состояниями полусна, к которым он уже успел привыкнуть. Впрочем, то была еще самая привычная и наименее тревожная сторона того, что он испытывал. Страх, душивший его, не ограничивался одной лишь этой путаницей, которая не позволяла ему даже понять, шел ли он сейчас вдоль стены в лучах дневного солнца, или, лежа в ночной тишине, мысленно проигрывал встречу с Эрикой в своих торопящих события галлюцинациях. Он даже не знал теперь, существует ли он на самом деле. Нет, это было не одно лишь столь знакомое ему чувство потери собственной личности, которое ему доводилось испытывать довольно часто: будто зажатый в чьей-то невидимой руке ластик принимался стирать карандашные линии его контуров. Он чувствовал, что им манипулируют, что кто-то выдумал его, точнее, выдумывал прямо сейчас, со всеми вытекающими отсюда последствиями неуверенности и нерешительности, проникавшими в его отношения с самим собой. Хотя сознание его уже было достаточно целостным и устоявшимся, чтобы он мог чувствовать, как ему придают форму и наполняют содержанием, и отдавать себе отчет в возникающем из-за этого страхе, а ведь он не знал еще всего об этой личности, которую уже готовы были ему навязать, НАВЯЗАТЬ ЕМУ в этом ошеломляющем своей быстротой построении, которое подходило к концу и завладевало уже самым основанием творения, в котором располагался его персонаж, превращая день то в ночь, то в сумерки и никак не решаясь выбрать между террасой, спальней на вилле «Флавия» или более привычными рамками его кабинета во дворце Фарнезе, в котором он находился в настоящий момент. Так вот, хотя он был уже почти закончен, готов предстать перед самим собой и занять свое место в роли посла Франции, хотя внешне он был достаточным реалистом, чтобы быть в состоянии отражать любые взгляды и критические суждения, он все же не обладал той самостоятельностью, что позволила бы ему освободиться, ОСВОБОДИТЬСЯ ОСВОБОДИТЬСЯ от влияния этого или той — МАЛЬВИНЫ ФОН ЛЕЙДЕН, СОЖЖЕННОЙ НА КОСТРЕ ЗА КОЛДОВСТВО В 1565 ГОДУ, ИЛИ БАРОНА? — того, кто пока еще не закончил его выдумывать, но с очевидным недоброжелательством прилагал к этому все усилия с целью наказать его за тайную низость, НИЗОСТЬ, столь давно скрываемую за благопристойным фасадом ЧЕЛОВЕКА ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ, внешностью безупречного европейца, до последнего вздоха хранящего верность своему воображаемому миру. В настоящий момент он ни в чем не был уверен. В голове у него, да и снаружи, носился целый вихрь возможностей, ни одну из которых не удавалось выхватить из круговерчения этой лихорадочной карусели слов, творений, мелодий, мыслей, цитат, криков, голосов, Эразма, Монтеня, Хейзинга, Барбюса, Камю, масок и лиц, среди которых лица Мальвины и Барона проступали с особенной ясностью, чтобы тут же раствориться. Предрассветный бриз выдавал шепот серого бархата портьер, которые, распахиваясь, приоткрывали чуточку лунной наготы, как девичью коленку в разрезе юбки, а скрип паркета напоминал о присутствии тех, кого давно уже не было здесь, но можно было найти в «Истории виллы „Флавия“» Паоло Венни. Слышно было, как панически трещит сердце цикад, слишком частый пульс которого невозможно было определить, что в свою очередь, делая невозможным дешифровку этого испуганного послания, лишь обостряло его угрожающий характер. Случались также моменты ложных пробуждений и ясности, купающейся в лучах тосканского солнца, которые приходили к нему на помощь, вырывая из затягивавшегося болота небытия, моменты полного спокойствия, когда утренняя прохлада камней и озерной воды побеждали лихорадку. Краткие мгновения просветления, когда вся долина, парк, мрамор террасы, озеро и небо делили с ним хлеб и соль своей тихой прозрачности. Тогда, делая глубокий вдох, подставляя лицо этой вечной материнской нежности, закрыв воспаленные от бессонницы глаза, Дантес избавлялся от этой тиранической зависимости, от этого мерзкого чувства, что кто-то другой тебя выдумывает и даже живет вместо тебя, по всей видимости, его двойник, тот, кто так хорошо скрывал его и за спину которого он прятался сам, скрываясь от чувства вины. Но накопившиеся месяцы бессонных ночей, пытка изнурять себя постоянным бодрствованием, находясь в преддверии сна и не имея возможности переступить эту черту мрака и отдохнуть, наконец давали ему всего несколько секунд передышки, и он уже не мог понять, засыпает ли он или просыпается, в этой застывшей длительности вне Времени, где, весьма вероятно, речь шла о совсем другом месте и совершенно другом человеке. И тем не менее не было более спокойного места, чем его кабинет во дворце Фарнезе, в котором он находился в настоящий момент среди знакомых предметов, своих картин, скульптур, например вот этой, фигурки Данте из раскрашенного дерева или Арлекина, разодетого в шелк и кретон, конвертов и бланков посольства, приглашений на ужин, выставленных в ряд на каминной полке, в глубокой тишине хорошо сделанных вещей и архитектуры, окружающей разум рамками гармоничных пропорций, отвечавшей на сумбур души убедительной правильностью схематических построений. Перед ним — шахматная доска, на которой он только что воспроизвел ход Ладья C1 — С4 Капабланки, что было явной ошибкой, вероятно явившейся следствием нервного напряжения кубинца. Под мощной защитой коня черным удается достичь превосходства на половине ферзя, и второстепенные пешки теряют всякую значимость. Капабланка проиграл, потому что не увидел вовремя угрозу ловушки, которую ему поставили. В то же время было полным абсурдом поддаваться панике и думать, что Барон обладает столь дьявольской властью. Неспешное течение небытия под видом сна… Дантес захлопнул крышку парты, побросал свои тетради в портфель и бросился на улицу, где его мать уже ждала за рулем их фамильного «рено»; он торопился присоединиться к своим товарищам, игравшим во дворе их дома на улице Бак: один из них, Ларьен

Пронзительный роман-автобиография об отношениях матери и сына, о крепости подлинных человеческих чувств.Перевод с французского Елены Погожевой.

Роман «Пожиратели звезд» представляет собой латиноамериканский вариант легенды о Фаусте. Вот только свою душу, в существование которой он не уверен, диктатор предлагает… стареющему циркачу. Власть, наркотики, пули, смерть и бесконечная пронзительность потерянной любви – на таком фоне разворачиваются события романа.

Роман «Корни неба» – наиболее известное произведение выдающегося французского писателя русского происхождения Ромена Гари (1914–1980). Первый французский «экологический» роман, принесший своему автору в 1956 году Гонкуровскую премию, вводит читателя в мир постоянных масок Р. Гари: безумцы, террористы, проститутки, журналисты, политики… И над всем этим трагическим балаганом XX века звучит пронзительная по своей чистоте мелодия – уверенность Р. Гари в том, что человек заслуживает уважения.
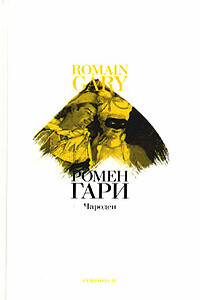
Середина двадцатого века. Фоско Дзага — старик. Ему двести лет или около того. Он не умрет, пока не родится человек, способный любить так же, как он. Все начинается в восемнадцатом столетии, когда семья магов-итальянцев Дзага приезжает в Россию и появляется при дворе Екатерины Великой...

Пронзительно нежная проза, одна из самых увлекательных литературных биографий знаменитого французского писателя, лауреата Гонкуровской премии Р. Гари.

«Кто лучше знает тебя: приложение в смартфоне или ты сама?» Анна так сильно сомневается в себе, а заодно и в своем бойфренде — хотя тот уже решился сделать ей предложение! — что предпочитает переложить ответственность за свою жизнь на электронную сваху «Кисмет», обещающую подбор идеальной пары. И с этого момента все идет наперекосяк…

Самое завораживающее в этой книге — задача, которую поставил перед собой автор: разгадать тайну смерти. Узнать, что ожидает каждого из нас за тем пределом, что обозначен прекращением дыхания и сердцебиения. Нужно обладать отвагой дебютанта, чтобы отважиться на постижение этой самой мучительной тайны. Талантливый автор романа `После запятой` — дебютант. И его смелость неофита — читатель сам убедится — оправдывает себя. Пусть на многие вопросы ответы так и не найдены — зато читатель приобщается к тайне бьющей вокруг нас живой жизни. Если я и вправду умерла, то кто же будет стирать всю эту одежду? Наверное, ее выбросят.

«Женщина с прошлым» и муж, внешне готовый ВСЕ ПРОСТИТЬ, но в реальности МЕДЛЕННО СХОДЯЩИЙ С УМА от ревности…Габриэле д'Аннунцио делал из этого мелодрамы.Уильям Фолкнер — ШЕДЕВРЫ трагедии.А под острым, насмешливым пером Джулиана Барнса это превращается в злой и озорной ЧЕРНЫЙ ЮМОР!Ревность устарела?Ревность отдает патологией?Такова НОВАЯ МОРАЛЬ!Или — НЕТ?..

Шестеро друзей — сотрудники колл-центра крупной компании.Обычные парни и девушки современной Индии — страны, где традиции прошлого самым причудливым образом смешиваются с реалиями XXI века.Обычное ночное дежурство — унылое, нескончаемое.Но в эту ночь произойдет что-то невероятное…Раздастся звонок, который раз и навсегда изменит судьбы всех шестерых героев и превратит их скучную жизнь в необыкновенное приключение.Кто же позвонит?И что он скажет?..

Перед вами настоящая человеческая драма, драма потери иллюзий, убеждений, казалось, столь ясных жизненных целей. Книга написана в жанре внутреннего репортажа, основанного на реальных событиях, повествование о том, как реальный персонаж, профессиональный журналист, вместе с семьей пытался эмигрировать из России, и что из этого получилось…
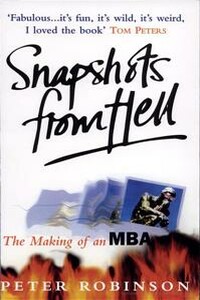
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
