Еврейский вопрос Ленину - [4]
Определять этническую принадлежность отдельных большевиков — отличное упражнение в анахронизме: занятие веселое, но неблагодарное. Евреи сыграли немалую роль в русской революции, но эта роль не была еврейской. Даже если предположить, что Ленин был по происхождению местечковым евреем (чего никогда не было!), назвать Ленина еврейским означает отрицать его ключевую роль вождя революционеров-большевиков. А с другой стороны, не упомянуть его еврейских родственников, соратников и друзей в рассказе о революционных событиях — означает сделать еще одну попытку создания расово чистой версии русской революции, каковая, кстати, стопроцентно устраивала советских коммунистов. «Еврейский Ленин» — оксюморон, противоречие в определении, крик перекошенного от злобы расиста, хлопающего дверью, конец серьезного разговора. Наоборот, еврейский вопрос в связи с Лениным может и в самом деле оживить дискуссию.
В главах 1 и 2 я занимаюсь этим вопросом в самом конкретном, буквальном смысле слова: предлагаю рассказ о далекой еврейской родне Ленина в ее непосредственном социокультурном контексте. Сперва я занимаюсь местечком и местечковыми евреями — в главе 1, затем, в главе 2 — собственно Мошко Бланком. В главе 3 еврейский вопрос рассматривается в самом широком смысле: я пытаюсь реконструировать, как Ленин понимал еврейский вопрос в Европе в целом и в русском социал-демократическом движении в частности. В главе 4 я рассуждаю о нетерпимости большевиков к аллегориям и их пристрастии к символам, что и привело их к попыткам создания русифицированного Ленина и подавления всяких поползновений к изучению «еврейского» в связи с Лениным вопроса. В главе 5 я анализирую труды некоторых русских профессиональных ксенофобов, глубоко и не без причины заинтересовавшихся еврейским вопросом Ленина. Мечтатели, взыскующие высшего толкования вещей и событий — известного в научных кругах как толкование анагогическое, — русские ультраправые включили с их точки зрения стопроцентно иудейского Ленина в свои исторические построения, изобразив русскую революцию как расправу гнусных инородцев над чистой как слеза матушкой-Россией.
Сложности исторических процессов вынуждают исследователя ставить под сомнение давно устоявшиеся термины и понятия. В новейших работах по истории Восточной Европы термин «антисемитизм» стал столь же расплывчатым и бессодержательным, как и концепция еврейского заговора у тех, кто подпал под влияние «Протоколов сионских мудрецов». Я бы предложил более тонкое и одновременно более точное описание русской ксенофобии и постарался бы обойтись без термина «антисемитизм» — как полагают многие, этого универсального ключа, якобы открывающего все потайные дверцы в пугающих подвалах русской истории. В некоторых случаях российские власть предержащие вознеслись к сияющим высотам откровенного расизма (граничащего с нацизмом), но во многих других случаях их нельзя назвать даже вульгарными антисемитами.
Наконец, в гуманитарных науках вообще и в исторических исследованиях в частности чем крупнее рассматриваемое явление, тем оно более разнообразно. Некоторые советские евреи действительно были русскоговорящими интернационалистами, но представлять их всех кочевыми космополитами, придерживающимися откровенно левацких взглядов, как это следует из работ некоторых постмо-дерных глобализированных интеллектуалов, значит впадать в удобный редукционизм. Евреи не были однородной племенной общностью с общими целями, ценностями и судьбой, какими их живописуют русские ультраконсерваторы и их еврейские критики. К тому же если такую многочисленную общность, как русские евреи, нельзя признать однородной массой, то тем более следовало бы признать внутренне разнообразной такую страну, как Россия или СССР. Действительно, некоторые руководители коммунистической партии на самых высоких постах в Москве были антисемитами, в то время как другие — в Минске, Житомире или Новосибирске — не были. Воможно, внутри столичного Садового кольца Советский Союз представлялся тоталитарной страной, но на территории от Ленинграда до Владивостока страна может вовсе не походить на тоталитарную.
Эта небольшая книга, в особенности главы 1, 3 и 5, представляет в новом свете различные ленинские контексты, связанные с еврейским вопросом. В главах 2 и 4 я опираюсь на тщательные генеалогические реконструкции отечественных специалистов. Всем тем, что касается Бланков и поиска сведений о них в Советском Союзе, я обязан исследованиям и публикациям Галины Бородулиной, Генриха Дейча, Ефима Меламеда, Татьяны Колосковой, Всеволода Цаплина и особенно Михаила Штейна. Мало кто из современных ученых может поспорить с Михаилом Штейном в прилежности и точности его генеалогических исследований, которым, увы, недостает интерпретационной широты, сравнительного подхода и знания еврейского историко-культурного контекста. Так что я со своей стороны постарался добавить к этим исследованиям новые контексты и новые интерпретации — или, скорее, контекст как интерпретацию. Так как в мою задачу входила реконструкция восприятия некоторых аспектов ленинской родословной, я сосредоточился исключительно на Бланках, оставив без внимания немецко-шведскую линию Гроссшопфов и Эссенов. Таким образом, среди прочего я рассматриваю здесь труды по генеалогии Ленина и в более широком смысле рассуждаю о значении генеалогии для историка.
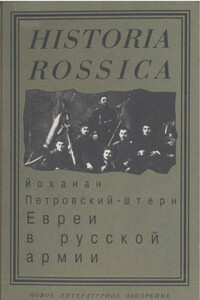
Эта книга — о встрече традиционной еврейской общины и русской армии, о социально-политических и духовных обстоятельствах этой встречи, а также о ее последствиях. Автор прослеживает историю взаимоотношений военного ведомства с евреями России и Царства Польского от первого еврейского рекрутского набора 1827 г. вплоть до начала Первой мировой войны. Исследователь рассматривает военную и национальную проблематику в широком социокультурном контексте: литературные образы еврейских солдат в русской армии, отношение военных министров и полковых командиров к этническим меньшинствам, быт воспитанников в кантонистских батальонах, думские дебаты и военные баталии.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Почему я собираюсь записать сейчас свои воспоминания о покойном Леониде Николаевиче Андрееве? Есть ли у меня такие воспоминания, которые стоило бы сообщать?Работали ли мы вместе с ним над чем-нибудь? – Никогда. Часто мы встречались? – Нет, очень редко. Были у нас значительные разговоры? – Был один, но этот разговор очень мало касался обоих нас и имел окончание трагикомическое, а пожалуй, и просто водевильное, так что о нем не хочется вспоминать…».

Деятельность «общественников» широко освещается прессой, но о многих фактах, скрытых от глаз широких кругов или оставшихся в тени, рассказывается впервые. Например, за что Леонид Рошаль объявил войну Минздраву или как игорная мафия угрожала Карену Шахназарову и Александру Калягину? Зачем Николай Сванидзе, рискуя жизнью, вел переговоры с разъяренными омоновцами и как российские наблюдатели повлияли на выборы Президента Украины?Новое развитие в книге получили такие громкие дела, как конфликт в Южном Бутове, трагедия рядового Андрея Сычева, движение в защиту алтайского водителя Олега Щербинского и другие.

Курская магнитная аномалия — величайший железорудный бассейн планеты. Заинтересованное внимание читателей привлекают и по-своему драматическая история КМА, и бурный размах строительства гигантского промышленного комплекса в сердце Российской Федерации.Писатель Георгий Кублицкий рассказывает о многих сторонах жизни и быта горняцких городов, о гигантских карьерах, где работают машины, рожденные научно-технической революцией, о делах и героях рудного бассейна.

Свободные раздумья на избранную тему, сатирические гротески, лирические зарисовки — эссе Нарайана широко разнообразят каноны жанра. Почти во всех эссе проявляется характерная черта сатирического дарования писателя — остро подмечая несообразности и пороки нашего времени, он умеет легким смещением акцентов и утрировкой доводить их до полного абсурда.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.