Евреи - [45]
– Пойду лучше к Шлойме, – решил он.
Он ускорил шаги, обогнул рынок и углубился в окраину. Евреи уже возвращались с базаров, и в каждом лице, нахмуренном и бледном, он читал свое томление. И он вдруг пошел с ними в странном волнении оттого, что у них общее горе, – как с родными, легко заговаривал с ними, и они отвечали ему…
Шлойму Нахман нашел окруженным толпой. Он стоял посреди комнаты, битком набитой евреями, и говорил. И после каждой фразы народ, как в храме, тихим хором повторял его последнее слово…
– Евреи, – пронеслось у Нахмана, как в чудном сне, – вот мои братья.
Шлойма как бы вырастал на глазах. Он стоял вдохновенный, гордый и прямой, со взором юноши и его голосом, и лилась неотразимо обаятельная чудная речь. Он говорил:
– …Не твердите мне: они; люди вы все, – но ненависть должна у вас быть против насильника своего или чужого. Что дрожите? Ненавистью правого сильны вы. Я учу вас так: дух гонимого должен быть закален; но соединитесь, как волки, оскальте зубы и выставьте когти врагу. Восстаньте! Насильник близок: вот шаги его. Не бойтесь, он слаб, ибо неправда ведет его. Спиной к спине станьте друг подле друга, сосед подле соседа. Пусть будет храбрость ответом насилию!
– Храбрость насилию! – прогудела возбужденная толпа.
– …Но, сжав кулак, вложите в него ваше сердце. Ибо, как они, вы сами, – и они, как вы. На удар ответьте десятью, – из них девять для тех, кто дал насильнику камень против вас, – ибо не враг, то брат идет на вас!
Нахман с волнением слушал, заражаясь настроением толпы, и жадно ловил каждое слово Шлоймы. В комнате все больше набивалось народа, и в углах уже раздавался заунывный плач женщин.
– Пойду еще к Даниэлю, – подумал Нахман, когда в толпе заговорили.
Он незаметно выскользнул из комнаты и вышел на улицу. Теперь он чувствовал себя бодрее, подвигался с поднятой головой, и встречные не пугали его… Не враги, а братья, – он видит их в настоящем свете, таких же загнанных, голодных, слепых к истинному виновнику их страданий, – и он не боялся.
– Мы будем защищаться, – возбужденно думал он, – мы будем защищаться…
Даниэль уже был дома, когда Нахман пришел к нему. Комната сияла предпраздничной чистотой, но уныние царило во всех углах. Мойшеле сидел подле матери и каждый раз спрашивал:
– Ты еще не весела, мать?
И когда она отвечала: нет, дорогой, – он опускал голову и шептал: – когда же?
Сам Даниэль сидел с Эзрой, со столяром Файвелем и Лейзером и тихим голосом рассказывал им о том, что сегодня узнал.
При виде Нахмана он вскочил, натянуто улыбнулся и, как будто у него была неприятность, которую хотел скрыть, – искусственным голосом крикнул:
– Ну, вот и вы, Нахман! У вас очень веселое лицо…
– Я иду от Шлоймы, – ответил Нахман, здороваясь и удивляясь, что ни Эзра, ни Лейзер не ответили ему на приветствие.
– Вы могли бы не уходить от него, – с гневом произнес Лейзер.
– Что это значит, Даниэль? – с изумлением спросил Нахман.
– Пусть он отправляется к Шлойме! – отозвался Эзра, с ненавистью глядя на него. – Изменник должен идти к своим.
– Я не понимаю вас, Эзра, – проговорил Нахман, побледнев.
– Он не понимает! – жестко передразнил Лейзер.
– А события понимаете? – вскипел Эзра. – Хватает у этого вас для вашей ничтожной головы, вашего ничтожного сердца? Да отвечайте же, или я вам в лицо плюну! Что скажете теперь? Дождались? Отвечайте же, где ваша родина?
– Где ваша родина? Выложите-ка на стол? – подхватил Лейзер.
А Файвель, глядя свирепо на Нахмана, точно тот был виновником событий, сердито спрашивал:
– Что скажете на несчастного еврея?
– Я не могу так разговаривать, – отозвался Нахман тихим голосом, – вы готовы побить меня. Но… в семье дерутся, помирятся…
– Что он сказал! – крикнул Эзра, затрясшись от негодования, – он сказал: в семье? Собираются грабить, убивать… Вы знаете, – с силой произнес он, повернувшись вдруг к Нахману, – чья вина наших несчастий? Не знаете? Ваша! У вас не заговорило сердце от ужаса? Ваша, слышите? Вы, равнодушные, изменившие своему народу, – вы подготовляете и вызываете грабеж… Вы этого не знали? Невинные… Вы, вы… Вы потеряли все, что связывало вас с народом, и вы больше наших врагов желаете, чтобы евреи исчезли. Вас камнями забросать нужно!
– Эзра, нужно же перестать, – вмешался Даниэль.
– Ваша родина здесь? – не унимался Эзра, мигая больными глазами. – Скажите, где? Покажите место в этой огромной стране, где мы не страдали бы за то, что мы евреи. Покажите наследство… Десять столетий мы живем здесь, где ступала наша нога, – все расцветало. Мы оживляли деревни, города, мы вносили ум, мы подавали пример доброй семейной жизни, нашей трезвостью, каждый дикий уголок страны впитал пот наших трудов, мы боролись с невежеством, мы проливали кровь за страну… Где наследство от трудов десяти столетий? Миллионы людей приносили благо стране, – что дали нам взамен? Это знает каждый мальчик… Взамен нас били, грабили, убивали и ежедневно выдумывали новое наказание, согнали нас в черту, точно не они, а мы, святые работники, были волками для людей. Одним сильным словом, нас тысячами выгоняли из насиженных мест в городах, – кто сосчитает, сколько слез мы пролили за добро, принесенное стране? И страну, где ваш народ живет вне закона, вы называете родиной? Стыд вам.
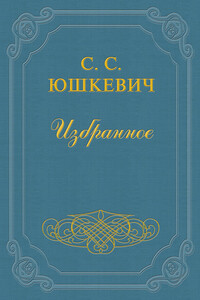
«С утра начался дождь, и напрасно я умолял небо сжалиться над нами. Тучи были толстые, свинцовые, рыхлые, и не могли не пролиться. Ветра не было. В детской, несмотря на утро, держалась темнота. Углы казались синими от теней, и в синеве этой ползали и слабо перелетали больные мухи. Коля с палочкой в руке, похожий на волшебника, стоял подле стенной карты, изукрашенной по краям моими рисунками, и говорил однообразным голосом…».

«Сон – существо таинственное и внемерное, с длинным пятнистым хвостом и с мягкими белыми лапами. Он налег всей своей бестелесностью на Савельева и задушил его. И Савельеву было хорошо, пока он спал…».
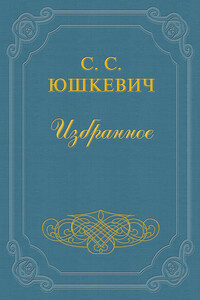
«Странный Мальчик медленно повернул голову, будто она была теперь так тяжела, что не поддавалась его усилиям. Глаза были полузакрыты. Что-то блаженное неземное лежало в его улыбке…».
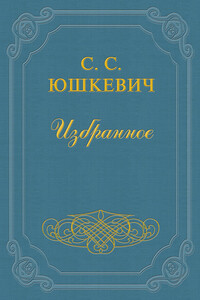
«Теперь наступила нелепость, бестолковость… Какой-то вихрь и страсть! Всё в восторге, как будто я мчался к чему-то прекрасному, страшно желанному, и хотел продлить путь, чтобы дольше упиться наслаждением, я как во сне делал всё неважное, что от меня требовали, и истинно жил лишь мыслью об Алёше. По целым часам я разговаривал с Колей о Настеньке с таким жаром, будто и в самом деле любил её, – может быть и любил: разве я понимал, что со мной происходит?».
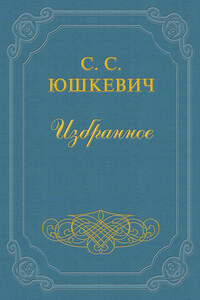
«Что-то новое, никогда неизведанное, переживал я в это время. Странная грусть, неясный страх волновали мою душу; ночью мне снились дурные сны, – а днём, на горе, уединившись, я плакал подолгу. Вечера холодные и неуютные, с уродливыми тенями, были невыносимы и давили, как кошмар. Какие-то долгие разговоры доносились из столовой, где сидели отец, мать, бабушка, и голоса их казались чужими; бесшумно, как призрак, ступала Маша, и звуки от её босых ног по полу казались тайной и пугали…».
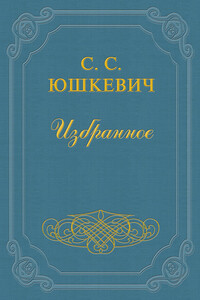
«И вдруг, словно мир провалился на глазах Малинина. Он дико закричал. Из-за угла стремительно вылетел грузовик-автомобиль и, как косой, срезал Марью Павловну. В колесе мелькнул зонтик.Показались оголенные ноги. Они быстро и некрасиво задергались и легли в строгой неподвижности. Камни окрасились кровью…».

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».

«Мы подходили к Новороссийску. Громоздились невысокие, лесистые горы; море было спокойное, а из воды, неподалеку от мола, торчали мачты потопленного командами Черноморского флота. Влево, под горою, белели дачи Геленджика…».

Из книги: Алексей Толстой «Собрание сочинений в 10 томах. Том 4» (Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1958 г.)Комментарии Ю. Крестинского.

Немирович-Данченко Василий Иванович — известный писатель, сын малоросса и армянки. Родился в 1848 г.; детство провел в походной обстановке в Дагестане и Грузии; учился в Александровском кадетском корпусе в Москве. В конце 1860-х и начале 1870-х годов жил на побережье Белого моря и Ледовитого океана, которое описал в ряде талантливых очерков, появившихся в «Отечественных Записках» и «Вестнике Европы» и вышедших затем отдельными изданиями («За Северным полярным кругом», «Беломоры и Соловки», «У океана», «Лапландия и лапландцы», «На просторе»)