Это не трубка - [4]
Но, боюсь, я пренебрег тем, что, возможно, является основным в Трубке Магритта. Я сделал так, как если бы текст говорил: «Я (эта совокупность слов, которые вы сейчас читаете) не есть трубка»; я сделал так, как если бы существовали, внутри одного пространства, две симультанные, совершенно отделенные одна от другой позиции: позиция фигуры и позиция текста. Но я упустил, что между ними была намечена неуловимая, хрупкая связь, одновременно настойчивая и неустойчивая. И на нее указывает слово «это». Возможно, следует принять целую серию пересечений, существующих между фигурой и текстом; или скорее: предпринятые взаимные атаки, стрелы, выпущенные в мишень противника, подкопы и разрушения, удары копья и раны, одним словом - битва. Например: «это» (этот рисунок, который вы видите и форму которого вы, несомненно, узнаете, чьи каллиграфические путы мне едва удалось развязать) «не» (не связанно субстанционально с… не состоит из… не покрывает ту же материю что и…) «трубка» (то есть слово, принадлежащее вашему языку, составленное из созвучий, которые вы можете произнести, и передаваемое буквами, чтение которых вы сейчас осуществляете).
Итак, Это не трубка может быть прочитано следующим образом:
Но в то же время тот же самый текст провозглашает совершенно другую вещь: «Это» (это высказывание, которое вы видите расположенным перед вашими глазами в виде линии разрозненных элементов и в котором это - одновременно обозначающее и первое слово) «не» (не может ни быть тождественным, ни заменить, не может адекватно представлять…) «трубка» (один из этих предметов, фигуру которого вы можете видеть здесь, над текстом, - вероятная, заменимая, анонимная и, следовательно, недоступная для любого именования). Значит, следует читать:
Но в целом легко увидеть, что высказывание Магритта отрицает именно одновременную и обоюдную взаимопринадлежность рисунка трубки и текста, которым можно именовать эту же самую трубку. «Обозначать» и «рисовать» не покрывают друг друга, разве что в каллиграфической игре, маячащей где-то на заднем плане всей конструкции, которая предотвращена одновременно и текстом, и рисунком, их разделенно-стью в данный момент. Отсюда - третья функция высказывания: «Это» (эта совокупность трубки в стиле письма и нарисованного текста) «не» (не совместимо с…) «трубка» (смешанный элемент, принадлежащий одновременно речи и изображению, двойственное бытие которого стремится проявить вербальная и визуальная игра каллиграммы).
Магритт вновь открывает ловушку, которую каллиграмма захлопывает на том, о чем она говорит. Тут внезапно ускользает сама вещь. На странице иллюстрированной книги мы не привыкли обращать внимание на это маленькое белое пространство, бегущее над словами и под рисунками, служа им общей границей для непрестанных переходов: так как именно здесь, на этих нескольких миллиметрах белизны, на стихшем песке страницы, завязываются между словами и формами все отношения означивания, называния, описания, классификации. Каллиграмма вбирает в себя этот разрыв; но, однажды раскрытая, она не заставляет его появиться вновь; ловушка разверзается на уже пустом месте: изображение и текст распадаются в разные стороны согласно гравитации, свойственной каждому из них. У них больше нет общего пространства, места, в котором они могли бы взаимодействовать, где слова были бы способны к восприятию фигуры, а изображения могли бы войти в лексический ряд. В маленькой полоске, тонкой, бесцветной и нейтральной, что отграничивает в рисунке Магритта текст и фигуру, можно увидеть ту полость, ту неопределенную, туманную область, что разделяет теперь трубку, парящую в небесах изображения, и земное топтание слов, шествующих друг за другом по прямой линии. Сказать, что существует лакуна или пустое пространство, - сказать слишком много: скорее, это отсутствие пространства, стирание «общего места» между знаками письма и линиями изображения. «Трубка», никогда не делимая на называющее ее высказывание и призванный изображать ее рисунок, эта трубка - тень, где переплелись линии формы и волокна слов, окончательно исчезла. Исчезновение, которое, по ту сторону этого неглубокого ручья, отмечает, забавляясь, текст: это не трубка. Рисунок трубки, теперь пребывающий в одиночестве, может сколько угодно стараться быть похожим на форму, которую обычно обозначает слово
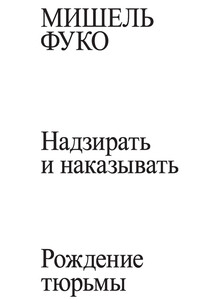
Более 250 лет назад на Гревской площади в Париже был четвертован Робер-Франсуа Дамьен, покушавшийся на жизнь короля Людовика XV. С описания его чудовищной казни начинается «Надзирать и наказывать» – одна из самых революционных книг по современной теории общества. Кровавый спектакль казни позволяет Фуко продемонстрировать различия между индивидуальным насилием и насилием государства и показать, как с течением времени главным объектом государственного контроля становится не тело, а душа преступника. Эволюция способов надзора и наказания постепенно превращает грубое государственное насилие в сложнейший механизм тотальной биовласти, окутывающий современного человека в его повседневной жизни и формирующий общество тотального контроля.

Приняв за исходную точку анализа платоновский диалог «Алкивиад» (Алкивиад I) Мишель Фуко в публикуемом курсе лекций рассматривает античную «культуру себя» I—11 вв. н. как философскую аскезу, или ансамбль практик, сложившихся пол знаком древнего императива «заботы о себе». Дальний прицел такой установки полная «генеалогия» новоевропейского субъекта, восстановленная в рамках заявленной Фуко «критической онтологии нас самих». Речь идет об истории субъекта, который в гораздо большей степени учреждает сам себя, прибегая к соответствующим техникам себя, санкционированным той или иной культурой, чем учреждается техниками господина (Власть) или дискурсивными техниками (Знание), в связи с чем вопрос нашего нынешнего положения — это не проблема освобождения, но практика свободы..

Об автореФранцузский философ Мишель Фуко (1926–1984) и через 10 лет после смерти остается одним из наиболее читаемых, изучаемых и обсуждаемых на Западе. Став в 70-е годы одной из наиболее влиятельных фигур в среде французских интеллектуалов и идейным вдохновителем целого поколения философов и исследователей в самых различных областях, Фуко и сегодня является тем, кто «учит мыслить».Чем обусловлено это исключительное положение Фуко и особый интерес к нему? Прежде всего самим способом своего философствования: принципиально недогматическим, никогда не дающим ответов, часто – провоцирующим, всегда так заостряющий или переформулирующий проблему, что открывается возможность нового взгляда на нее, нового поворота мысли.
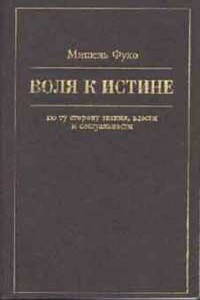
Сборник работ выдающегося современного французского философа Мишеля Фуко (1926 — 1984), одного из наиболее ярких, оригинальных и влиятельных мыслителей послевоенной Европы, творчество которого во многом определяло интеллектуальную атмосферу последних десятилетий.В сборник вошел первый том и Введение ко второму тому незавершенной многотомной Истории сексуальности, а также другие программные работы Фуко разных лет, начиная со вступительной речи в Коллеж де Франс и кончая беседой, состоявшейся за несколько месяцев до смерти философа.
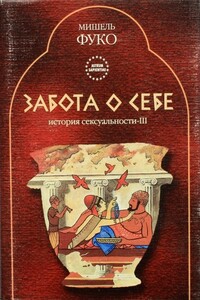
"История сексуальности" Мишеля Фуко (1926—1984), крупнейшего французского философа, культуролога и историка науки, — цикл исследований, посвященных генеалогии этики и анализу различного рода "техник себя" в древности, в Средние века и в Новое время, а также вопросу об основах христианской точки зраения на проблемы личности, пола и сексуальности. В "Заботе о себе" (1984) — третьем томе цикла — автор описывает эволюцию сексуальной морали и модификации разнообразных практик, с помощью которых инцивидуум конституирует себя как такового (медицинские режимы, супружеские узы, гетеро- и гомосексуальные отношения и т.д.), рассматривая сочинения греческих и римских авторов (философов, риторов, медиков, литераторов, снотолкователей и проч.) первых веков нашей эры, в т.
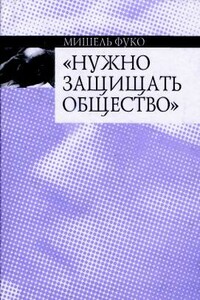
Книга — публикация лекций Мишеля Фуко — знакомит читателя с интересными размышлениями ученого о природе власти в обществе. Фуко рассматривает соотношение власти и войны, анализируя формирование в Англии и Франции XVII–XVIII вв. особого типа историко-политического дискурса, согласно которому рождению государства предшествует реальная (а не идеальная, как у Гоббса) война. Автор резко противопоставляет историко-политический и философско-юридический дискурсы. Уже в аннотируемой книге он выражает сомнение в том, что характерное для войны бинарное отношение может служить матрицей власти, так как власть имеет многообразный характер, пронизывая вес отношения в обществе.http://fb2.traumlibrary.net.

Есть события, явления и люди, которые всегда и у всех вызывают жгучий интерес. Таковы герои этой книги. Ибо трудно найти человека, никогда не слыхавшего о предсказаниях Нострадамуса или о легендарном родоначальнике всех вампиров Дракуле, или о том, что Шекспир не сам писал свои произведения. И это далеко не все загадки эпохи Возрождения. Ведь именно в этот период творил непостижимый Леонардо; на это же время припадает необъяснимое на первый взгляд падение могущественных империй ацтеков и инков под натиском горстки авантюристов.

Издание представляет собой сборник научных трудов коллектива авторов. В него включены статьи по теории и методологии изучения культурогенеза и культурного наследия, по исторической феноменологии культурного наследия. Сборник адресован культурологам, философам, историкам, искусствоведам и всем, кто интересуется проблемами изучения культуры.Издание подготовлено на кафедре теории и истории культуры Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена и подводит итоги работы теоретического семинара аспирантов кафедры за 2008 – 2009 годы.Посвящается 80-летнему юбилею академика РАЕН доктора исторических наук Вадима Михайловича Массона.

Книга состоит из очерков, посвященных различным сторонам духовной жизни Руси XIV‑XVI вв. На основе уникальных источников делается попытка раскрыть внутренний мир человека тех далеких времен, показать развитие представлений о справедливости, об идеальном государстве, о месте человеческой личности в мире. А. И. Клибанов — известнейший специалист по истории русской общественной мысли. Данной книге суждено было стать последней работой ученого.Предназначается для преподавателей и студентов гуманитарных вузов, всех интересующихся прошлым России и ее культурой.

Автор, на основании исторических источников, рассказывает о возникновении и развитии русского бала, истории танца и костюма, символике жеста, оформлении бальных залов. По-своему уникальна опубликованная в книге хрестоматия. Читателю впервые предоставляется возможность вместе с героями Пушкина, Данилевского, Загоскина, Лермонтова, Ростопчиной, Баратынского, Бунина, Куприна, Гоголя и др. побывать на балах XVIII–XX столетий.Это исследование во многом носит и прикладной характер. Впервые опубликованные фигуры котильона позволяют воспроизвести этот танец на современных балах.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Издание является первым полным русским переводом двух книг выдающегося американского литературоведа Хэролда Блума, представляющих собой изложение оснований созданной им теории поэзии, в соответствии с которой развитие поэзии происходит вследствие борьбы поэтов со своими предшественниками.