Это не трубка - [5]
Нигде нет трубки.
Теперь становится понятной последняя магриттов-ская версия Это не трубка. Помещая рисунок трубки и высказывание, служащее ему легендой, на отчетливо ограниченной поверхности картины (в той мере, в какой речь идет о живописи, буквы есть только изображения букв; в той мере, в какой речь идет о школьной доске, фигура есть лишь дидактическое продолжение дискурса), помещая эту картину на деревянный треножник, основательный и устойчивый, Маг-ритт делает все для того, чтобы восстановить общее место изображения и языка (либо отсылая к непреходящему значению произведения искусства, либо к истинности наглядного урока).
Все надежно закреплено внутри школьного пространства: картина или доска «показывает» рисунок, «показывающий» форму трубки; и текст, написанный усердным учителем, «показывает», что речь идет действительно о трубке. Указка учителя, которую мы не видим, тем не менее царит надо всем, так же как и его голос, весьма отчетливо выговаривающий: «Это трубка». От картины к изображению, от изображения к тексту, от текста к голосу эта своего рода указка свыше отмечает, показывает, фиксирует, устанавливает, навязывает систему отсылок, пытается утвердить единое пространство. Но почему я ввел еще и голос учителя? Так как едва он произносит «это трубка», он тут же осекается и бормочет: «это не трубка, но рисунок трубки», «это не трубка, но фраза, говорящая, что это трубка», «фраза: «это не трубка» яе есть трубка»; «во фразе «это не трубка» это не трубка: эта картина, эта написанная фраза, этот рисунок трубки, все это - не трубка».
Отрицания множатся, голос сбивается и глохнет; учитель опускает указку, поворачивается спиной к доске и смущенно смотрит на хохочущих учеников, ему невдомек, что они так громко смеются оттого, что над школьной доской и над отбубнившим свои отрицания учителем поднимается дымок, медленно принимающий некую форму и теперь со всей точностью и несомненностью обрисовывающий трубку. «Это трубка, это трубка», - кричат ученики, топающие ногами, в то время как учитель все тише и тише, но с той же настойчивостью, шепчет, хотя никто уже его не слышит: «И все же это не трубка». Он не ошибается: так как эта трубка, столь зримо парящая над сценой как вещь, к которой отсылает рисунок на доске и во имя которой текст может говорить с полным основанием, что рисунок действительно не трубка, эта трубка сама не что иное, как рисунок; это отнюдь не трубка. Как на доске, так и над нею рисунок трубки и текст, который должен ее называть, не находят места встречи, места, где они вновь окажутся пришпиленными друг к другу, как в каллиграмме, которая с большой самоуверенностью пыталась это осуществить.Тогда на этих заостренных, столь видимо неустойчивых ножках мольберт может лишь качнуться, рама развалиться, картина - упасть на землю, буквы - рассыпаться, а «трубка» - «разбиться»: общее место - банальное произведение или обыденный урок - исчезло.
III. КЛЕЕ, КАНДИНСКИЙ, МАГРИТТ
В западной живописи с пятнадцатого и вплоть до двадцатого века господствовали, я думаю, два принципа. Первый утверждает отделенность пластической репрезентации (заключающей в себе сходство) от лингвистической референции (исключающей его). Показывают через сходство, говорят через различие. Две системы не могут пересечься или смешаться. Необходимо, чтобы в той или иной форме существовало отношение соподчинения: либо текст определяется изображением (как в тех картинах, где представлена книга, надпись, письмо, имя персонажа), либо изображение определяется текстом (как в книгах, где рисунок завершает, словно следуя наикратчайшим путем, то, что поручено представлять словам). Правда, это соподчинение остается неизменным лишь в редких случаях: бывает, что текст книги оказывается лишь комментарием к изображению, развертыванием в последовательность слов его симультанной формы; а иногда текст подчиняет себе картину, пластически выражающую все его значения. Но дело не в том, как направлено подчинение, и не в формах его продолжения, умножения или инверсии: суть в том, что вербальный знак и визуальная репрезентация никогда не даны одновременно. Всегда некий порядок иерархизирует их, идя от формы к дискурсу или от дискурса к форме. Суверенность этого принципа упразднил Клее, придав ценность соположению фигур и синтаксису знаков в едином неопределенном, обратимом, словно парящем пространстве (одновременно холст и лист, полотнище и объем, клетки тетради и земельный кадастр, история и карта). Корабли, дома, фигурки людей - и узнаваемые формы и элементы письма. Они получают «место» и продвигаются по дорогам или каналам, которые также являются читаемыми строками. Деревья, леса шествуют по нотным линейкам. И взгляд, казалось бы перенесенный в вещную среду, встречает заблудившиеся среди вещей слова, указывающие ему путь, которым надо следовать, называющие пейзаж, сквозь который он проходит. И в точке стыка этих фигур и этих знаков - столь частая стрелка (стрелка -знак, несущий в себе сходство с оригиналом, подобно графической ономатопее, и фигура, отдающая приказ) , обозначающая, в каком направлении перемещается корабль, показывающая, что речь идет именно о заходящем солнце, уточняющая направление для взгляда, или, скорее, линию, по которой нужно перемещать в воображении фигуру, занимающую здесь временное и отчасти произвольно выбранное место. Это ни в коей мере не напоминает каллиграммы, в которых разыгрывается то подчинение знака форме (облако из букв и слова, образующие фигуру того, о чем они говорят), то подчинение формы знаку (фигура распадается на алфавитные элементы); речь также не идет о коллажах или воспроизведениях, где фрагменты предметов включают в себя расчлененные формы букв; мы говорим о том, что здесь система репрезентации по сходству и система референции через знаки сплетаются в единую ткань. Что предполагает их встречу в ином пространстве, нежели пространство картины.
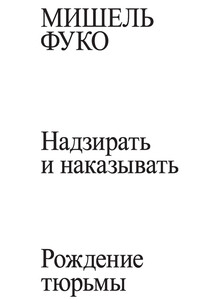
Более 250 лет назад на Гревской площади в Париже был четвертован Робер-Франсуа Дамьен, покушавшийся на жизнь короля Людовика XV. С описания его чудовищной казни начинается «Надзирать и наказывать» – одна из самых революционных книг по современной теории общества. Кровавый спектакль казни позволяет Фуко продемонстрировать различия между индивидуальным насилием и насилием государства и показать, как с течением времени главным объектом государственного контроля становится не тело, а душа преступника. Эволюция способов надзора и наказания постепенно превращает грубое государственное насилие в сложнейший механизм тотальной биовласти, окутывающий современного человека в его повседневной жизни и формирующий общество тотального контроля.

Приняв за исходную точку анализа платоновский диалог «Алкивиад» (Алкивиад I) Мишель Фуко в публикуемом курсе лекций рассматривает античную «культуру себя» I—11 вв. н. как философскую аскезу, или ансамбль практик, сложившихся пол знаком древнего императива «заботы о себе». Дальний прицел такой установки полная «генеалогия» новоевропейского субъекта, восстановленная в рамках заявленной Фуко «критической онтологии нас самих». Речь идет об истории субъекта, который в гораздо большей степени учреждает сам себя, прибегая к соответствующим техникам себя, санкционированным той или иной культурой, чем учреждается техниками господина (Власть) или дискурсивными техниками (Знание), в связи с чем вопрос нашего нынешнего положения — это не проблема освобождения, но практика свободы..

Об автореФранцузский философ Мишель Фуко (1926–1984) и через 10 лет после смерти остается одним из наиболее читаемых, изучаемых и обсуждаемых на Западе. Став в 70-е годы одной из наиболее влиятельных фигур в среде французских интеллектуалов и идейным вдохновителем целого поколения философов и исследователей в самых различных областях, Фуко и сегодня является тем, кто «учит мыслить».Чем обусловлено это исключительное положение Фуко и особый интерес к нему? Прежде всего самим способом своего философствования: принципиально недогматическим, никогда не дающим ответов, часто – провоцирующим, всегда так заостряющий или переформулирующий проблему, что открывается возможность нового взгляда на нее, нового поворота мысли.
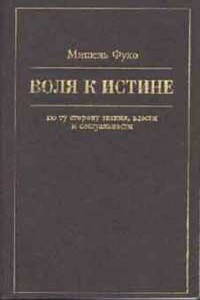
Сборник работ выдающегося современного французского философа Мишеля Фуко (1926 — 1984), одного из наиболее ярких, оригинальных и влиятельных мыслителей послевоенной Европы, творчество которого во многом определяло интеллектуальную атмосферу последних десятилетий.В сборник вошел первый том и Введение ко второму тому незавершенной многотомной Истории сексуальности, а также другие программные работы Фуко разных лет, начиная со вступительной речи в Коллеж де Франс и кончая беседой, состоявшейся за несколько месяцев до смерти философа.
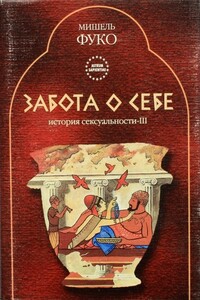
"История сексуальности" Мишеля Фуко (1926—1984), крупнейшего французского философа, культуролога и историка науки, — цикл исследований, посвященных генеалогии этики и анализу различного рода "техник себя" в древности, в Средние века и в Новое время, а также вопросу об основах христианской точки зраения на проблемы личности, пола и сексуальности. В "Заботе о себе" (1984) — третьем томе цикла — автор описывает эволюцию сексуальной морали и модификации разнообразных практик, с помощью которых инцивидуум конституирует себя как такового (медицинские режимы, супружеские узы, гетеро- и гомосексуальные отношения и т.д.), рассматривая сочинения греческих и римских авторов (философов, риторов, медиков, литераторов, снотолкователей и проч.) первых веков нашей эры, в т.
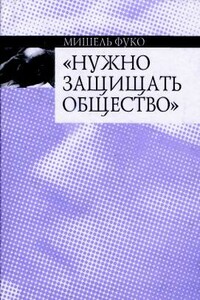
Книга — публикация лекций Мишеля Фуко — знакомит читателя с интересными размышлениями ученого о природе власти в обществе. Фуко рассматривает соотношение власти и войны, анализируя формирование в Англии и Франции XVII–XVIII вв. особого типа историко-политического дискурса, согласно которому рождению государства предшествует реальная (а не идеальная, как у Гоббса) война. Автор резко противопоставляет историко-политический и философско-юридический дискурсы. Уже в аннотируемой книге он выражает сомнение в том, что характерное для войны бинарное отношение может служить матрицей власти, так как власть имеет многообразный характер, пронизывая вес отношения в обществе.http://fb2.traumlibrary.net.

Есть события, явления и люди, которые всегда и у всех вызывают жгучий интерес. Таковы герои этой книги. Ибо трудно найти человека, никогда не слыхавшего о предсказаниях Нострадамуса или о легендарном родоначальнике всех вампиров Дракуле, или о том, что Шекспир не сам писал свои произведения. И это далеко не все загадки эпохи Возрождения. Ведь именно в этот период творил непостижимый Леонардо; на это же время припадает необъяснимое на первый взгляд падение могущественных империй ацтеков и инков под натиском горстки авантюристов.

Издание представляет собой сборник научных трудов коллектива авторов. В него включены статьи по теории и методологии изучения культурогенеза и культурного наследия, по исторической феноменологии культурного наследия. Сборник адресован культурологам, философам, историкам, искусствоведам и всем, кто интересуется проблемами изучения культуры.Издание подготовлено на кафедре теории и истории культуры Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена и подводит итоги работы теоретического семинара аспирантов кафедры за 2008 – 2009 годы.Посвящается 80-летнему юбилею академика РАЕН доктора исторических наук Вадима Михайловича Массона.

Книга состоит из очерков, посвященных различным сторонам духовной жизни Руси XIV‑XVI вв. На основе уникальных источников делается попытка раскрыть внутренний мир человека тех далеких времен, показать развитие представлений о справедливости, об идеальном государстве, о месте человеческой личности в мире. А. И. Клибанов — известнейший специалист по истории русской общественной мысли. Данной книге суждено было стать последней работой ученого.Предназначается для преподавателей и студентов гуманитарных вузов, всех интересующихся прошлым России и ее культурой.

Автор, на основании исторических источников, рассказывает о возникновении и развитии русского бала, истории танца и костюма, символике жеста, оформлении бальных залов. По-своему уникальна опубликованная в книге хрестоматия. Читателю впервые предоставляется возможность вместе с героями Пушкина, Данилевского, Загоскина, Лермонтова, Ростопчиной, Баратынского, Бунина, Куприна, Гоголя и др. побывать на балах XVIII–XX столетий.Это исследование во многом носит и прикладной характер. Впервые опубликованные фигуры котильона позволяют воспроизвести этот танец на современных балах.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Издание является первым полным русским переводом двух книг выдающегося американского литературоведа Хэролда Блума, представляющих собой изложение оснований созданной им теории поэзии, в соответствии с которой развитие поэзии происходит вследствие борьбы поэтов со своими предшественниками.