Эти странные семидесятые, или Потеря невинности - [4]
Размышляя о шестидесятых годах, я мог полагаться только на отдельные рассказы художников, а главным образом на свои ощущения и догадки, потому что для меня это все еще несознательное время. И вдруг недавно в воспоминаниях И. Кабакова я нашел удивительное подтверждение своим мыслям.
«О 60-х годах меньше всего можно говорить как о годах скепсиса, неуверенности, иронии, многозначительности, сомнения, рефлексии и т. п. Наоборот, это чрезвычайно аподиктичное время, связанное с уверенностью… Твердость, уверенность, убежденность характерны для всех персонажей 60-х годов»[11].
«…Закрытость, тайна, камерность нашей жизни в 60-е годы, принимающая иногда экзотические формы, была почти нормой. Интересно еще, что отсутствие показа работ нейтральному зрителю, отсутствие открытых выставок привело к тому, что реакция такого зрителя вообще не предполагалась, как бы перестала учитываться. Самодостаточность, аутичность художественной акции предполагала завершенность ее в самой себе, т. е. зритель, если он появлялся, должен был быть соучастником автора и только»[12].
Совершенно иначе развивалась в то время музыкальная культура, о чем свидетельствуют здесь рассказы музыкантов и композиторов. Новая российская музыка была, как ни странно, гораздо больше интегрирована в мировое движение. Несмотря на отдельные скандалы, в столицах, а еще больше в провинции устраивались оригинальные концерты; отдельных музыкантов и композиторов выпускали из страны, и они имели возможность вживую общаться со звездами западного авангарда. Музыканты и просто любители музыки имели больше возможностей отслеживать развитие музыки на Западе, покупая у фарцовщиков или привозя пластинки и партитуры, ведя переписку и проч. Почему-то музыка, в отличие от визуального ряда, в несколько меньшей степени рассматривалась властями как поле для потенциально враждебной идеологии. Можно утверждать, что и эта ситуация, хоть и не столь значительно, как прочие факторы, способствовала постепенному высвобождению сознания в замкнутом, сверхидеологизированном социуме.
Итак, в городах долго шли невнятные и заторможенные процессы самопознания и самоидентификации, поисков информации и единомышленников. Тем не менее в силу таких разных факторов, как гротескная гиперидеологизация масс-медиа и уличной агитации, начавшаяся с приснопамятной гигантской инсталляции с Ильичем-под-дирижаблем в ночном небе над несостоявшимся Дворцом Советов – да, все та же гигантомания – во время празднований 50-летия Октябрьской революции, повсеместная буффонада двоемыслия, ослабление хватки наследников железного Феликса, желание выйти за фрейм традиций ушедшего в прошлое авангарда, осознание самих себя как самоценных и свободных художников, к началу – середине 1970-х в Москве все же происходит постепенное высвобождение нашего собственного языка – об этом хорошо пишет в своем тексте Эрик Булатов. А поиск выхода из замкнутого, недвижного цикла жизни картин (художник – мастерская – случайный гость – стеллаж), из подвально-чердачного контекста ведет к прорыву 1974-го в Москве и несколько позже – в Питере.
Довольно убедительно рисует молодое поколение в семидесятые критик О. Холмогорова: «“Семидесятники” ничего не делали для истории, а жили и придумывали для сейчас и себя; идей хватало, их не надо было рассчитывать, они даже выстраивались в очередь, перехлестывая друг друга, захлебываясь собственной плодовитостью. Минимум рефлексий и оценок по шкале местной и интернациональной иерархии, невероятное, почти физическое наслаждение от происходящего – от градуса кипения той артистической жизни, от концентрации самостийно устраиваемых событий, от той питательной интеллектуально-художественной среды квартир, мастерских и кухонь, которая действительно заряжала… Делание искусства было естественным, как дыхание, требовавшее выхода и ощутимой реализации»[13]. К этому можно добавить и сочетание двух таких стимулирующих обстоятельств, отмечаемых авторами в разговорах со мной, как удивительное количество свободного времени и совершеннейшая беззаботность молодежи.
И именно в семидесятые годы XX века Л.Н. Гумилев в своей монографии «Этногенез и биосфера Земли»[63] вводит в научный оборот понятие пассионарность (от лат. passio – страсть, страстность) – этот термин неоднократно употребляет в своем тексте художник Борис Орлов. В широком смысле речь идет об уровне «биохимической энергии живого вещества» (термин В.И. Вернадского), содержащейся в отдельном индивиде или в группе людей, объединенных внутрисистемными связями. Как одна из центральных категорий теории этногенеза, пассионарность означает энергетическое напряжение общественных систем. По концепции Гумилева, те люди, что обладают определенными характеристиками («человеческим качеством»), выступают движущим ядром общественных систем и придают им соответствующий вектор развития.
Очень все мило и зажигательно. Единственный вопрос, который возникает при чтении этих теорий, так это почему вдруг именно в семидесятые «пассионарность» столичных культур (при всей разнице менталитетов Ленинграда и Москвы, не думаю, что стóит говорить только о Москве, особенно если вспомнить питерских литераторов!) достигает такого особого уровня, что придает культуре столь жирно начерченный вектор движения на пару десятилетий вперед?

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
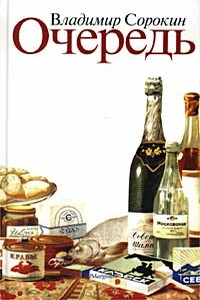
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
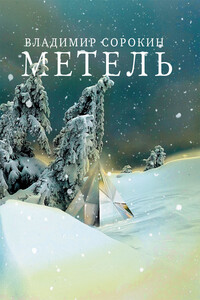
Что за странный боливийский вирус вызвал эпидемию в русском селе? Откуда взялись в снегу среди полей и лесов хрустальные пирамидки? Кто такие витаминдеры, живущие своей, особой жизнью в домах из самозарождающегося войлока? И чем закончится история одной поездки сельского доктора Гарина, начавшаяся в метель на маленькой станции, где никогда не сыскать лошадей? Все это — новая повесть Владимира Сорокина.
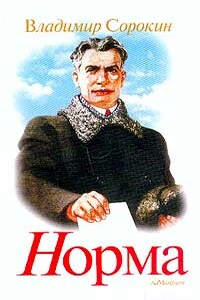
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
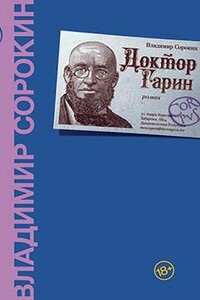
Десять лет назад метель помешала доктору Гарину добраться до села Долгого и привить его жителей от боливийского вируса, который превращает людей в зомби. Доктор чудом не замёрз насмерть в бескрайней снежной степи, чтобы вернуться в постапокалиптический мир, где его пациентами станут самые смешные и беспомощные существа на Земле, в прошлом — лидеры мировых держав. Этот мир, где вырезают часы из камня и айфоны из дерева, — энциклопедия сорокинской антиутопии, уверенно наделяющей будущее чертами дремучего прошлого.
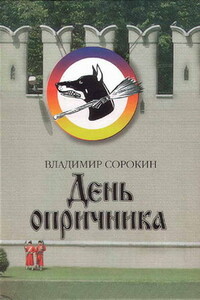
Супротивных много, это верно. Как только восстала Россия из пепла серого, как только осознала себя, как только шестнадцать лет назад заложил государев батюшка Николай Платонович первый камень в фундамент Западной Стены, как только стали мы отгораживаться от чуждого извне, от бесовского изнутри — так и полезли супротивные из всех щелей, аки сколопендрие зловредное. Истинно — великая идея порождает и великое сопротивление ей. Всегда были враги у государства нашего, внешние и внутренние, но никогда так яростно не обострялась борьба с ними, как в период Возражения Святой Руси.
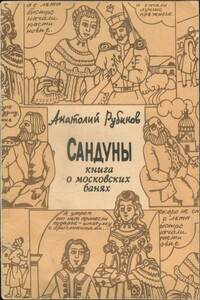
Не каждый московский дом имеет столь увлекательную биографию, как знаменитые Сандуновские бани, или в просторечии Сандуны. На первый взгляд кажется несовместимым соединение такого прозаического сооружения с упоминанием о высоком искусстве. Однако именно выдающаяся русская певица Елизавета Семеновна Сандунова «с голосом чистым, как хрусталь, и звонким, как золото» и ее муж Сила Николаевич, который «почитался первым комиком на русских сценах», с начала XIX в. были их владельцами. Бани, переменив ряд хозяев, удержали первоначальное название Сандуновских.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
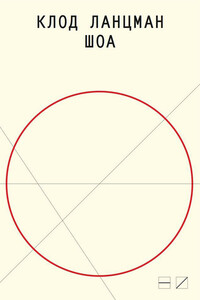
«Шоа» Клода Ланцмана – девятичасовой документальный фильм о Холокосте, состоящий из нескольких десятков интервью с его жертвами и исполнителями, работниками зондеркоманд и участниками Сопротивления, рядовой обслугой концлагерей и безмятежными крестьянами, жившими по соседству. Как и фильм, книга, в которой собраны тексты всех этих интервью, – один из самых убедительных документальных рассказов об уничтожении евреев во время Второй мировой войны, но прежде всего – исследование самой возможности помнить и свидетельствовать об исторической катастрофе.
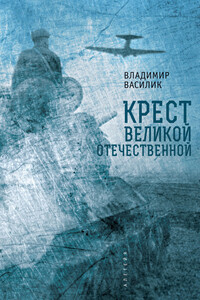
Книга является тематическим сборником статей доцента СПбГУ, диакона Владимира Владимирович Василика. В ней рассматриваются истоки Второй мировой войны и фашизма, военные операции Великой Отечественной войны, приводятся воспоминания очевидцев, рассматривается духовная жизнь этого периода.Особый акцент ставится на патриотическом служении Русской Православной Церкви во время Великой Отечественной Войны.Книга рассчитана на широкий круг читателей.

В русскоязычном интернете "Планом Даллеса" обычно называются два довольно коротких текста.1. Фрагмент приписываемых Даллесу высказываний, англоязычный источник которых нигде не указывается.2. Фрагменты директивы Совета Национальной Безопасности США 20/1 от 18 августа 1948 г. Их обычно цитируют по книге Н.Н.Яковлева "ЦРУ против СССР"Первый фрагмент является компоновкой высказываний персонажа из романа "Вечный Зов"Второй фрагмент представляет собой тенденциозно переведенные "фигурные цитаты" из реального документа NSC 20/1.Полюбуйтесь на документ полностью.Взято с www.sakva.ru.
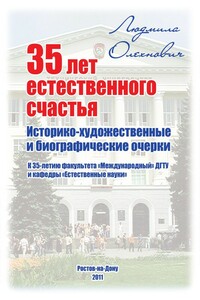
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.