Эстетика Другого: эстетическое расположение и деятельность [заметки]
1
Эстетическое послание классики можно охарактеризовать следующим образом: 1) все, что относится к искусству, должно быть отнесено к области эстетического (это прямой смысл послания), 2) все, что может быть определено в качестве «эстетически значимого» (так называемое «эстетическое отношение»), не может выходить за границы, установленные теми категориями, которые обнаруживаются эстетической теорией в классическом искусстве (это его косвенный смысл, его подтекст). Для нас особенно важен второй, косвенный смысл эстетического послания классики. Хотя многие философы XVIII—XX веков и заговаривали об «эстетике природы», но на деле (в своей исследовательской практике, в конструировании системы эстетических понятий) чаще всего исходили из опыта искусства, а не из эстетического опыта в жизни вне искусства. Отождествление эстетического и художественного происходило даже тогда, когда философы сознательно ставили на первое место эстетику природы, как это сделал Кант в «Критике способности суждения». Эстетические чувства, которые Кант обнаруживает в актах восприятия природных феноменов, были хорошо известны эстетике как чувства, культивировавшиеся в художественной деятельности.
2
Первое издание «Эстетики Другого» — Самара, 2000, второе — Санкт-Петербург, 2008.
3
При таком подходе эстетическое не может рассматриваться как институционально конституируемый феномен, (эстетическое здесь — это совсем не то, что принято считать таковым, не то, что легитимировано в качестве эстетической ценности общественными институциями: медиа, музеями, библиотеками, благотворительными фондами, академиями и университетами и т. д.), его нельзя свести к чувству точно так же, как его нельзя редуцировать к тому или иному типу эстетически значимых вещей, восприятие которых можно было бы рассматривать в качестве эстетического.
4
Впервые книга была издана в 2003 году в Самаре (Лишаев С. А. Эстетика Другого: эстетическое расположение и деятельность. — Самара, Самар, гумант. акад., 2003).
5
Подробнее о методологических и эмпирических основаниях изменения конфигурации поля эстетических исследований см. статью: Лишаев С. А. От тела к пространству: данность и возможность в эстетическом опыте // Mixtura verborum’2010: тело и слово. Философский ежегодник. — Самар, гуманит. акад. — Самара, 2010.
6
С подробным изложением принципов онтологической эстетики можно познакомиться в книге: Лишаев С. А. Эстетика Другого. — Самара, Самар, гуманит. акад., 2000, а также по второму, дополненному и исправленному ее изданию (Лишаев С. А. Эстетика Другого. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008).
7
Исследование эстетических расположений — это исследование, ориентированное онтологически, это такой подход, который учитывает опыт создания фундаментальной онтологии. В трактате «Бытие и время» М. Хайдеггер утвердил в качестве законного предмета онтологического (экзистенциально-онтологического) анализа расположение Dasein (Befindlichkeit) и провел анализ таких его модусов, как «страх» и «ужас». Однако Хайдеггер руководствовался в анализе расположений прежде всего задачей истолкования Dasein (Присутствия), а не аналитикой расположений как таковых; исследовательская программа Хайдеггера не предполагала вычленения из расположенности Dasein тех ее модусов, которые можно было бы определить как эстетические; по той же причине Хайдеггер не акцентировал внимания на их чувственной (онтической) составляющей, которая играет, по нашему убеждению, весьма важную роль в ходе исследования расположений в онтолого-эстетической перспективе.
8
Эстетические расположения делятся на условные и безусловные в зависимости от того, переживается ли их особенность (другость) как абсолютная или относительная, дано ли в них Другое собственно или несобственно, то есть от того, дано ли оно как сущее (другое) или как Другое (как Бытие, Небытие, Ничто).
9
Решающее значение в предпочтении понятия «Другое» «Бытию» или «Иному» имеет то обстоятельство, что термин «Другое» позволяет удерживать единый метафизический горизонт онтологической эстетики, связывая и эстетические расположения, отвергающие Присутствие (в опыте чувственной данности Другого как Небытия или как Ничто), и расположения, утверждающие его (опыт чувственной данность Другого как Бытия).
Кроме того, с его помощью можно удерживать и имманентность Другого эмпирике эстетического расположения (другое как сущее, как другая вещь, как бытие-с-другими), и его трансцендентность ей (Другое как иное, чем сущее в целом). То, что термин «другое» может использоваться и для обозначения сущего и для обозначения не-сущего (Бытия, Небытия, Ничто), представляется существенным его достоинством с точки зрения задач, стоящих перед феноменологией эстетических расположений. Важно также то, что Другое позволяет удерживать такую характеристику эстетических расположений, как их особенность, выделенность из потока обыденных переживаний.
Другое онтологической эстетики лишь частично совпадает с уже вошедшими в концептуальный словарь современной философии трактовками «Другого». Первое и самое главное совпадение можно видеть в том, что Другое мыслится как непрозрачный для любых объяснительных процедур момент опыта, поскольку оно рассматривается как его до-разумное, сверх-разумное (за-умное), а потому и не подлежащее «снятию» начало. Во-вторых, Другое мыслится не как нечто надмирное, а как имманентное миру сущего чистое Различие: Другое обнаруживает себя в мире. Другое невозможно рассматривать, минуя другое, сущее. Сохраняется и характерная для современного прочтения Другого его соотнесенность с человеком, с человеческим опытом. Местом пребывания и реализации Другого, местом его присутствия в мире оказывается человек, хотя Другое и не рассматривается в онтологической эстетике в значении «другой человек». Другое в феноменологии эстетических расположений — это прежде всего Другое как иное всему другому (сущему). Другое может быть понято и как «Ты», и как «объект», и как «бессознательное» в самом человеке, но все это — лишь частные обнаружения Другого. Другое в рамках данного исследования — это метафизическое Начало человеческого присутствия в мире, поскольку оно дано нашему чувству, для которого это Начало всегда будет чем-то предельно Другим, странным и в то же время предельно близким, поистине «своим».
10
К настоящему моменту наши представления о делении расположений в зависимости от характера их внешнего референта претерпели определенные изменения. Если в этой работе речь идет о временных и пространственных расположениях, то теперь мы говорим о трех областях эстетического опыта. Вместо эстетики пространства мы предлагаем говорить об эстетике тела (формы) и эстетике пространства. Подробнее см.: Лишаев С. А. (У? тела к пространству: данность и возможность в эстетическом опыте // Mixtura verborum’2010: тело и слово. Философский ежегодник. — Самар, гуманит. акад. — Самара, 2010; Лишаев С. А. Анализ отдельных расположений эстетики пространства см. в работах: Пространство простора // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология». № 2.2010; Лишаев С. А. Любовь к дальнему (эстетика дали в кратком изложении) // Международный журнал исследований культуры. Выпуск 2. Свое и Чужое в культуре. СПб., № 1 (2) 2011. URL: http://www.culturalresearch.ru/ru/curr-issue; Лишаев С. А. Эстетика пространства в культурно-историческом и экзистенциальном контексте // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология». 2011. № 1 (9). С. 52-70; Лишаев С. А. Сверху вниз (пропасть как эстетическое расположение) // Mixtura verborum’2011: Метафизика старого и нового. Философский ежегодник. — Самар, гуманит. акад. — Самара, 2011; Лишаев С. А. Феноменология выси // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. Научный журнал. Серия «Философия». 2011. № 4. Том 2.
11
Что касается онтолого-эстетической характеристики некоторых из описанных в «Эстетике Другого-1» расположений, то с ними читатель может познакомиться в Приложении 1, помещенном в конце этой книги.
12
Говоря о художественно-эстетической деятельности, мы имеем в виду те ее виды, которые в Новое время определялись через понятие изящных искусств (архитектура, скульптура, живопись, музыка, танец, «изящная словесность»), а также театр, декоративно-прикладное искусство (и продолжающий его в условиях производства/потребления дизайн), кино и новейшие продукты арт-практик телевизионного и компьютерного происхождения. Ключевым моментом, объединяющим эти разнородные во многих отношениях виды деятельности, выступает их нацеленность на производство эстетического эффекта посредством изготовления предметов (или особых пространств, эстетически действенных «сред»), наделенных преэстетическими характеристиками.
13
Лишаев С. А. Указ. соч. С. 59—74.
14
Традиция эстетического паломничества особенно глубоко укоренилась в японской культуре, где эстетический опыт, эстетическое переживание чувственной данности Другого во многом заняло то место, которое в жизни других народов играют (или играли в прошлом) религия, религиозная обрядность и связанное с ней переживание откровений Высшего в окружающем мире. Духовная жизнь японцев (ее религиозные и философские измерения) получила наиболее полное и адекватное свое выражение именно в эстетическом переживании, вобравшем в себя и сакрализацию природы в синтоизме, и медитативные практики дзен-буддизма. Для японцев преэстетически значимыми, помимо особо почитаемых мест и ландшафтов, оказываются такие природные события, как цветение сакуры, первый снег, полнолуние и другие природные явления, которые несут в себе преэстетический стимул к рождению особенного чувства в форме «прекрасного», «ветхого», «мимолетного», «возвышенного», «старого», «маленького», etc.
Японский путешественник XVIII века Кацурагавата в своих воспоминаниях о посещении Петербурга упоминает и о весенней поездке царицы в Царское Село, трактуя ее как эстетическое паломничество. Кацурагавата пишет, что императрица поехала в свою загородную резиденцию, «чтобы полюбоваться снегом» (Кацурагавата Хосю. Краткие вести о скитаниях в северных водах. М., 1978. С. 207). Ю. М. Лотман дает весьма любопытный комментарий по поводу этого замечания японского путешественника: «Здесь — очень тонкое выражение японского восприятия природы. Житель Петербурга переживает снег как естественную, привычную красоту. И что особенно важно, зимой в России снег выпадает надолго, поэтому он влечет за собой представление о долгом, прочном и даже вечном. В Японии снеговой покров недолог и вызывает образы кратковременной, быстро исчезающей красоты. В японской образности снег хрупок и ассоциируется с чувством быстротечной земной красоты. Как же не полюбоваться ею перед ее исчезновением!» (Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII—начало XIX века). СПб.: Искусство-СПБ, 1994. С. 388). Ю. М. Лотман обращает внимание на присущую разным культурам специфику в восприятии одних и тех же явлений природы, имеющую разную семантику, но при этом он, как нам кажется, оставляет без внимания другое и притом весьма любопытное обстоятельство, характеризующее степень укорененности феномена эстетического паломничества в японской культуре: с точки зрения японца, созерцание только что выпавшего и готового вот-вот растаять весеннего снега — это достаточно веская причина для того, чтобы императрица выехала в свою загородную резиденцию. Для японца любование снегом — это серьезный повод отложить текущие дела и отправиться в путешествие: «Зимой принято любоваться свежевыпавшим снегом. Весной — цветением сливы, азалии, вишни. Осенью — багряной листвой горных кленов и полной луной» (Овчинников В. В. Сакура и дуб: Впечатления и размышления о японцах и англичанах. — М., 1983. С. 42). Все это, конечно, не означает, что человек, не принадлежащий к японской культуре, не способен к восприятию мимолетной прелести тающего снега или непрочной красоты осыпающихся на ветру цветов вишни, это означает только то, что явления природы, которые в русской или английской культуре воспринимаются как эстетически значимые в индивидуальном порядке, в японской культурной традиции были институциализированы и их индивидуальное и коллективное созерцание оформилось в особую духовно-эстетическую практику.
15
Подробнее см.: Лишаев С. А. Помнить фотографией. СПб.: Алетейя, 2012.
16
Оно относится к эстетическому паломничеству примерно так же, как коммерческий продукт (боевик, «ужастик», комедия, мелодрамы) относится к киноискусству. В массовом, коммерческом кино от зрителя требуется минимум усилий при гарантированном результате. На выходе он должен получить (в зависимости от жанра) или сладкие слезы, или беззаботный смех, или выброс адреналина. Предельную и, если так можно выразиться, «классическую» форму выхолащивания идеи Путешествия, Приключения и религиозного/эстетического Паломничества являет собой Диснейленд. Д. В. Михель справедливо замечает, что Диснейленд «знаменовал собой начало новой формы прогулочных парков, в которых люди становятся на непрерывно движущуюся поточную линию и затем „проталкиваются“ сквозь „впечатления“. Но не всегда прогулка оказывалась легкой. В иных случаях возникали длинные очереди, и туристы оказывались заключенными в огороженные загоны для людей. По мнению Ч. Дженкса, в логике функционирования Диснейленда масштабы массового туризма стали противоречить идее туризма как таковой.
Диснейленд, действительно, разрушил саму идею путешествия. <...> Путешествие здесь разрушается не только на психологическом, эмоциональном уровне, но и на чисто моторном: тело проходит сквозь мир, не покидая своего места, риск всякой опасности сведен к нулю. Диснейленд — это, таким образом, протез для путешественника и туриста» (Михель Д. В. Тело, территория, технология. Философский анализ стратегий телесности в современной западной культуре. — Саратов: Научная книга, 2000. С. 97—98).
О гибели идей Путешествия и Паломничества в массовом туризме пишет и С. П. Турин. С его точки зрения, туризм есть деградация традиционных путешествия и паломничества. Путешествие и паломничество рассматриваются им как «возможность действительного трансцендирова-ния», как «стремление... к выходу за пределы собственно человеческого, к расширению своего масштаба и горизонтов». «Паломничество, — пишет Турин, — путешествие в поисках остатков сакрального. Цель паломника — увидеть святыни, прикоснуться к божественному, изменить себя, соразмерить себя с бесконечностью, пережить неповторимое, невозможное, чудо. <...> Туризм — путешествие в пустом мире, в духовной пустыне, где уже не осталось сакральных ценностей. Он больше похож на странничество, когда Бог потерян радикально, на земле его нет нигде. <...> Туризм подменяет собой подлинное путешествие, симулирует его» (Гурт С. П. Проблемы маргинальной антропологии. Саратов: Издат. центр Сарат. гос. соц.-эконом. ун-та, 1998. С. 109—110). С автором этого высказывания нельзя не согласиться: туризм сегодня успешно подменяет собой и симулирует и «эстетическое паломничество», и паломничество в его исходном, религиозно-сакральном смысле. Эстетическое паломничество так же, как и паломничество в исконном, религиозном смысле, имеет своим экзистенциальным ядром надежду на Встречу, на событие (на таинственное, непредсказуемое откровение Другого).
17
Шукшин В. М. Собрание сочинений. В 6 т. — М.: Мол. гвардия, 1993.-Т. 3. С. 256.
18
В наброске к рассказу, который мы находим в рабочих тетрадях В. Шукшина (дек. 1972 г.), читаем: «Жизнь души. Странный человек: хороший работник, но выступать не любит, в президиумы на собраниях не садится и сами собрания не любит. Любит в субботу топить баню. Топит ее весь день с чувством, с толком, не торопясь — с большим наслаждением. И это — радость» (Шукшин В. М. Указ соч. С. 597).
19
Шукшин В. М. Указ. соч. С. 254.
20
Шукшин В. М. Указ. соч. С. 254.
21
Соседки Кости, глядя на то, как он топит баню, говорили: «Вот — весь день будет баней заниматься. Бесконвойный он и есть... Алеша» (Там же. С. 255). Второе имя Кости — Алеша наводит нас на вполне определенные ассоциации с народной традицией «духовного стиха», а точнее, на ассоциацию с одним из самых любимых в народе духовных стихов об Алексее Божьем человеке (См.: Федотов Г. Стихи духовные (Русская народная вера по духовным стихам). — М.: Гнозис, 1991. С. 99—104). Для односельчан Костя Валиков — человек не от мира сего, человек хоть и «мирской», но со странностями... Отсюда, возможно, и кличка эта — «Алеша». Костина «блажь» для его соседей — «дурь», но не только. Это, одновременно, и «блажь» как юродство (У Даля читаем: «Блажь ж. дурь, шалость, дурость; упорство, своенравие; юродство...» — см.: Даль В. И. Толковый словарь великорусского языка: В 4 т. Т. 1.: А—3. — СПб.: Диамант, 1996. С. 95). Костина «блажь», взятая в смысловом горизонте «юродства», есть уже не просто дурь, а такая странность в поведении, которая делает его «блаженным» человеком, свидетелем нездешнего света и обличителем «мира сего». Подобно Иванушке-дурачку русского фольклора, юродивый — это человек, скрывающий за внешней простотой, глупостью, асоциальностью поведения высшую правду. Такой человек самим своим бытием свидетельствует о том, что в жизни, кроме дома, работы, огорода, есть что-то еще... «Блаженный» — это не только «калека, уродливый, юродивый, божий человек, малоумный, дурачок», но, одновременно, и «благополучный, благоденствующий и благоденственный, счастливый» человек (Даль В. И. Там же. С. 95). Вспомним полные иронии слова Чацкого из «Горе от ума», где «блаженный» — это «счастливый», «благополучный»: «Блажен, кто верует, тепло ему на свете!». Нет, не случайно получилось так, что в сознании односельчан фигура пастуха Валикова сближается с той частью народного сознания, в которой живет память об Алексее Божьем человеке!
22
Шукшин В. М. Указ. соч. С. 258.
23
Там же. С. 255.
24
Шукшин В. М. Указ. соч. С. 255—265.
25
Шукшин В. М. Указ соч. С. 266.
26
Наша задача как раз и состоит в том, чтобы обосновать это утверждение, сделать его феноменологически очевидным.
27
О магии грузинского Стола хорошо говорит (во Введении к «Лекциям о Прусте») М. К. Мамардашвили: «Легенды, коллективное знание, историческая память... ежедневно разыгрываемые за Столом, когда любое событие превращается в праздник, в пир, несет с собой радость. <...> Но где истина? Что значит эта древняя, но живая сила Стола, ее дух воодушевления? <...> ...Эпические жесты Стола. Мир, в который мы переносимся и в котором — на мгновение — живем, преображенные ритуалом, мистерией и эпосом Стола. Эляция и радость преображения перед лицом священнодействующих жестов и звуков. Никакой трагедии, хотя все предметы — трагичны. Эпос вещей-жестов, «чистых объектов» (Пруст), которые не имеют с историей ничего общего. Стол — религиозное явление и в нем то, из чего и вырастают религиозные и почти мистические чувства. Вкушаем «плоть и кровь», goûtons l’essence нашей памяти. Бредовое и космато-перепутанное сознание, как всполохом прорываемое взлетающими птицами песни: но где мы? кто мы?» (Мамардашвили М. К. Лекции о Прусте (психологическая топология пути). — М., 1995. С. 8—9).
28
Шукшин В. М. Указ. соч. С. 264.
29
Определение человека как знака и притом «знака без толкования», то есть такого, который содержит в себе «беспокойство», «вопрос», мы встречаем у Мартина Хайдеггера: «...Мы только тогда есть мы, мы сами, такие, какие мы есть, когда мы указываем в уход. Как указывающий туда, человек есть указатель. И притом дело обстоит не так, что человек есть прежде всего человек, а потом, помимо этого, еще случайно и указатель, но втянутый в самоудаление, в тяг от него, и таким образом указывая в уход, впервые и становится человек человеком. Его сущность основывается в том, чтобы быть таким указателем.
То, что само по себе, по своему глубочайшему составу, является чем-то указывающим, мы называем знаком. Втянутый в тяг самоудаления, человек есть знак. Однако этот знак указывает на то, что уклоняется, поэтому этот указатель не может непосредственно обозначить то, что отсюда удаляется. Так знак остается без толкования» (.Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге: Сборник. — М: Высш. шк., 1991. С. 139).
30
Алеша по-своему задается такого рода вопросами и гадатель-но, неуверенно на них отвечает. Однако дело не вербальных вопросах и ответах. Энтелехией банного действа являются не они, а онтолого-эстетическая разрешенность от бремени вопроса на уровне эстетического события данности Другого как начала, конституирующего бытие-знак, бытие-вопрос.
31
В чайной церемонии, в поэзии рэнга, в грузинском пире и т. п. зритель не желателен. Он может отвлечь на себя внимание вопросом или смешком, вызвать раздражение как соглядатай, без спроса вторгающийся в действо, не предполагающее внешнего наблюдателя. Баня в Алешином исполнении не предполагает постороннего, не нуждается в нем. А вот то, что Костя Валиков ходит в баню один, — случайность. Достаточно вспомнить «Иронию судьбы...» Э. Рязанова, где мы также имеем дело с обыгрыванием темы ритуализации бани. И кто сегодня усомнится в том, что этот фильм значительно интенсифицировал стихийно складывающуюся на российских просторах традицию «бани-как-действа»?
32
Я широко использую слово «церемония» (наряду со словами «ритуал» и «действо»), поскольку в нем удачно сочетаются указание на отточенность действия и на устойчивость каждого элемента действа, превращающего баню в исполнении Кости Валикова в особое искусство. Конечно, термин «церемония» имеет и свои недостатки: он несет в себе смысловой оттенок публичности и торжественности (церемониймейстеры, придворные торжества и выходы царствующих особ, открытие и ход судебного заседания, дипломатические встречи, протокольные завтраки...), чего нет, к примеру, в феномене, именуемом «чайной церемонией»; нет его и в банном ритуале Бесконвойного. В слове «церемония» живут китайские и иные церемонии, с переполняющими их условными, несущими только семиотическую нагрузку движениями, с множеством разнообразных предметов, чего мы опять-таки не наблюдаем в банном ритуале Алеши Бесконвойного (каждое действие имеет вполне определенный прагматический, утилитарный смысл). И тем не менее слово «церемония» представляется мне вполне подходящим для выражения того, чем занимается шукшинский герой. Хотя мытье в бане и лишено здесь какой бы то ни было торжественности, но в том, что касается праздничного настроения, отточенности движений, строгой последовательности действий, тщательности отбора предметов, используемых по ходу «действа», нацеленности банного ритуала на «непрозаическое», «небудничное», «особенное», этот термин вполне уместен. В добавление к уже сказанному замечу, что слово «церемония», в сочетании со словом «банная», удерживает в сфере внимания читателя существенную для понимания бани как эстетически заряженного действа связь с феноменом «чайной церемонии».
33
Эстетическое расположение понимается мной как чувственная данность особенного, Другого в утверждающем бытие человека модусе Бытия или в отвергающих его модусах Небытия и Ничто, кристаллизующаяся на человеке и окружающих его предметах. Расположение — это эстетический ландшафт, включающий в себя человека и возникший в момент, когда Другое расположилось в человеке и в воспринимаемых им в качестве особенных вещах.
34
Конечно, в контексте анализа банного дня Алеши Бесконвойного об искусстве можно говорить только в том случае, если понимать искусство предельно широко, то есть как мастерство, умение, искусность (греч. «технэ»), а не замыкать его в темницу «изящных искусств», как это было принято в классической эстетике Нового времени (искусство как созидание прекрасного произведения). При этом, приняв к сведению «расширительное» («античное») понимание «искусства» как созидательной деятельности по правилам (так понятое искусство вбирает в себя мастерство корабела, математика, поэта, живописца...), имеет смысл все же сохранить сложившееся в Новое время различение понятий «искусство» и «техника». Следует обратить внимание на то обстоятельство, что, говоря, например, об искусстве живописи, в нем обычно различают то, чего живописец достигает посредством техники живописи, и то, что он вносит в него через свой художественный талант. Одной техники (даже виртуозной) для того, чтобы создать художественное произведение, — мало, для этого нужен талант, нужно вдохновение, которые — в отличие от технической стороны художественного творчества — не могут быть рационализированы, следовательно, не могут быть предметом обучения. Талант и вдохновение — то иррациональное, свободное, самозаконное начало искусства, которое отделяет его от ремесла и промышленного, машинного производства вещей (для которого технических знаний и умений достаточно для создания продукта готового к употреблению).Таким образом, под искусством мы понимаем деятельность, нацеленную на подготовку условий для «действия» Другого, для того, что «само». Там же, где результат достигается гарантированно, там, где умелой деятельности достаточно для достижения поставленной цели, мы имеем дело с техникой, с технической деятельностью и с ее результатами. Человек искусства (и не обязательно — художник) ориентируется в своей деятельности на случай, на событие, а не полагается только на свои знания и умения и на свое владение технической стороной дела. Он исходит из фактора фундаментальной неопределенности, ориентируясь на Другое и стремясь к синергетическому взаимодействию с ним. При таком понимании искусство предстает как искусство жизни, как мудрость, то есть много шире, чем «искусство изготовления изящных вещей», поскольку жизнь, в отличие от вещей, содержит в себе сверхрациональное начало и искусство может быть понято как способ давать в этой жизни место Другому. (О соотношении понятий «искусство» и «художество», «произведение искусства» и «художественное произведение» см. Приложение 4).
35
Шукшин В. М. Указ. соч. С. 256—259.
36
Шукшин В. М. Указ соч. С. 260—265.
37
Существует два варианта перевода слова «утопия» с греческого: 1) «место, которого нет», 2) «благословенная страна», счастливое место, место, где реализовалось благо (см.: Философская энциклопедия. В 5 т. — М., 1970. Т. 5. С. 295). Баня для Бесконвойного — это его утопия, место, где невозможное становится возможным, где суета и злость отступают и воцаряются полнота и покой, ясность и цельность.
38
Заметим при этом, что только эстетическое расположение в утверждающем человеческое бытие в мире модусе (в модусе Бытия) оставляет место для размышления. Чувственная данность Другого в модусах Небытия (ужас, страх, безобразно-отвратительное) и Ничто (тоска) не оставляет мыслям места; отвергающие расположения ставят под вопрос само понимание (способность понимания), чем способствуют, конечно, пробуждению мышления, но не в момент погруженности в ситуацию отвержения, а после выхода из нее.
39
«...Как хотел Алеша, чтоб дети его выучились, уехали бы в большой город и возвысились там до почета и уважения. А уж летом приезжали бы сюда, в деревню, Алеша суетился бы возле них — возле их жен, мужей, детишек ихних... <...> Внучатки бы бегали по ограде... Нет, жить, конечно, имеет смысл. Другое дело, что мы не всегда умеем» (Шукшин В. М. Указ соч. С. 262).
40
Нелишне будет отметить, что эстетическое расположение далеко не всегда реализуется в таких формах и на таких предметах, которые допускают осуществление их воспроизведения, повторения ситуации. Однако в том случае, когда оно связано с действиями и обстоятельствами, которые находятся в нашей власти и допускают их произвольное повторение, тогда, воспроизведя предметную ситуацию и соответствующий порядок действий, мы можем надеяться на то, что нам удастся подготовить «приход» Другого. Конечно, повтор предметной ситуации (даже когда он возможен) и определенной последовательности действий еще не гарантирует, что повторится то эстетическое событие, ради актуализации которого, собственно, и восстанавливается предметная ситуация: тело и вещи мы еще можем привести в желаемое положение, но приход Другого, присутствие которого одно только и способно превратить предметную ситуацию в эстетический феномен, остается только возможным, но не необходимым, не неизбежным (то, что не есть «что-то», не может быть получено по ходу манипуляций с сущим). Не будет большой натяжкой предположить, что Алеша Бесконвойный не каждую субботу испытывает «покой и полноту» с той интенсивностью, которая сделала из него апологета, служителя и ревнителя «искусства топить баню». Кстати сказать, можно предположить, что Алеша достигает «полноты чувств» как раз благодаря тому, что его внимание сконцентрировано не на «эстетическом эффекте» (хотя этот эффект и есть то, ради чего Алеша отстаивает свое право на субботнюю баню), а на бане как системе действий: на топке, уборке помещения, на мытье и охаживании себя горячим веничком, когда конкретные действия — давно отлаженные и не требующие для своего выполнения особых усилий — концентрируют на себе внимание и оставляют в душе «пространство» для Другого (лучший способ заснуть — это не думать о том, что вам необходимо заснуть...). Фиксируя внимание на том, что вполне можно сделать, Алеша не пытается достичь того, чего достичь нажимом невозможно, и тем самым создает благоприятные условия для того, чтобы то, что «само», открыло себя в расположении.
41
В русской культурной традиции баня — нечто привычное и в бытовом плане — естественное. Односельчане видят в Алеше «чудика» не потому, что он парится в бане, а потому, что регулярность и продолжительность его банного дня выходит за привычные рамки, за границы «нормального» (нормальная баня — это помывка и прогрев, занимающие один-два часа). Дело, стало быть, не в бане, а в том, что Костя Валиков из нее сделал.
42
Овчинников В. В. Сакура и дуб: Впечатления и размышления о японцах и англичанах. — М., 1983. С. 49.
43
О рыбалке и охоте как пути достижения «безмятежности» с большим чувством (даже пафосом) писал известный русский рыболов и охотник Сергей Тимофеевич Аксаков: «На зеленом, цветущем берегу, над темной глубью реки или озера, в тени кустов, под шатром исполинского осокоря или кудрявой ольхи, тихо трепещущей своими листьями в светлом зеркале воды, на котором колеблются или неподвижно лежат наплавки ваши, — улягутся мирские страсти, утихнут мнимые бури, рассыплются самолюбивые мечты, разлетятся несбыточные надежды! Природа вступит в вечные права свои, вы услышите ее голос, заглушенный на время суетней, хлопотней, смехом, криком и всею пошлостью человеческой речи! Вместе с благовонным, свободным, освежительным воздухом вдохнете вы в себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхождение к другим и даже к самому себе. Неприметно, мало-помалу рассосется это недовольство собою, эта презрительная недоверчивость к собственным силам, твердости и чистоте помышлений...» (Аксаков С. Т. Избранное. — Куйбышев, 1981. С. 269—270).
44
«Охота за грибами» как некое эстетизированное действо впервые раскрыла себя в дворянской среде, отпочковавшись от имеющей прагматическую направленность, хотя и не лишенной эстетических обертонов, традиции собора грибов русскими крестьянами. В самом начале автобиографического романа В. Набокова «Другие берега» мы находим интереснейшее описание «хорошего отношения к грибам» матери писателя: «Любимейшим ее летним удовольствием было хождение по грибы. В оригинале этой книги мне пришлось подчеркнуть само собою понятное для русского читателя отсутствие гастрономического значения в этом деле (курсив мой. — Л. С.). Но, разговаривая с москвичами и другими русскими провинциалами, я заметил, что и они не совсем понимают некоторые тонкости, как, например, то, что сыроежки или там рыжики и вообще все низменные агарики с пластиночной бухтармой совершенно игнорировались знатоками, которые брали классически прочно и округло построенные виды из рода Boletus, боровики, подберезовики, подосиновики. В дождливую погоду, особенно в августе, множество этих чудных растеньиц вылезало в парковых дебрях, насыщая их тем сырым, сытным запахом — смесью моховины, прелых листьев и фиалкового перегноя, — от которого вздрагивают и раздуваются ноздри петербуржца. Но в иные дни приходилось подолгу всматриваться и шарить, покуда не сыщется семейка боровичков в тесных чепчиках, или мраморный «гусар», или болотная форма худосочного белесого березовика.
Под моросящим дождиком мать пускалась одна в долгий поход, запасаясь корзинкой — вечно запачканной лиловым снутри от чьих-то черничных сборов. Часа через три можно было увидеть с садовой площадки ее небольшую фигуру в плаще с капюшоном, приближавшуюся из тумана аллеи; бисерная морось на зеленовато-бурой шерсти плаща
образовывала вокруг нее подобие дымчатого ореола. Вот, выйдя из-под капающей и шуршащей сени парка, она замечает меня, и немедленно ее лицо принимает странное, огорченное выражение, которое, казалось бы, должно означать неудачу, но на самом деле лишь скрывает ревниво сдержанное упоение, грибное счастье. Дойдя до меня, она испускает вздох преувеличенной усталости, и рука и плечо вдруг обвисают, чуть ли не до земли опуская корзинку, дабы подчеркнуть ее тяжесть, ее сказочную полноту.
Около белой, склизкой от сырости садовой скамейки со спинкой она выкладывает свои грибы концентрическими кругами на круглый железный стол со сточной дырой посредине. Она считает и сортирует их. Старые, с рыхлым исподом, выбрасываются; молодым и крепким уделяется всяческая забота. Через минуту их унесет слуга в неведомое и неинтересное ей место, но сейчас можно стоять и тихо любоваться ими» (Набоков В. Другие берега; Защита Лужина. Романы, рассказы. — М.: «ДЭМ», 1990. С. 23—24). В этом описании «грибной охоты» доминируют два момента: спортивный и эстетический, причем последний явно преобладает.
В том широком «грибном движении», которое можно было наблюдать в среде городских жителей второй половины XX века две эти традиции (крестьянская и дворянская) слились воедино, выделив из своих рядов настоящих знатоков и литературных апологетов «грибной охоты» (см., например, книгу Вл. Солоухина «Третья охота»). В советское время в подходе к сбору грибов того или иного грибника элементы «дворянской» и «крестьянской» мотивации «грибной охоты» соединялись в разной пропорции: в одном случае мог доминировать прагматический, в другом — спортивный, а в третьем — эстетический мотив, но чаще бывало так, что всего все аспекты «грибного действа» пребывали в нерасчлененном синкретическом единстве и третья охота лишь в редких случаях достигала высот чисто эстетического или чисто спортивного отношения к хождению за грибами.
45
В живописи, о чем в свое время (еще в конце девятнадцатого века) с горечью писал Ж. Вибер, художники перестали уделять внимание прочности и долговечности своих творений. Очевидно, что пренебрежение долговечностью имеет своим основанием постепенную, но неотвратимую коррозию представления о том, что картина создается «на века»: «В настоящее время художники... вообще мало интересуются материалами своего искусства. Они предоставили целиком заботу приготовления холстов и красок людям, часто ничего общего не имеющим с живописью. <...> Современный художник... как дилетант, не зная материалов для живописи, отдается своим фантазиям во славу «святому искусству» и пишет беспечно, не думая о завтрашнем дне, озабоченный одной мыслью — не отстать от моды. <...> Достаточно прогулки по Лувру, чтобы убедиться, что сохранность картин находится в непосредственной зависимости от их возраста. <...> С приближением к нашему столетию живопись портится все больше и больше, и самые разрушенные картины — это датированные последними годами. Кто же виноват в этом? Только художники, равнодушие которых к сознательному выбору средств их искусства переходит всякие границы» (Вибер Ж. Живопись и ее средства. — М., 1991. С. 4). По мере смещения акцента с «вечности» (вечная красота, вечные ценности) как горизонта, из которого и в котором художник создает картину, на «сейчас», на «вот» как на место-время эстетического переживания живописец все больше ценит в средствах и материалах живописи возможность быстро, без промедления осуществить художественный замысел, углубить и утончить свое чувство и все меньше задумывается о том, как долго созданная им картина сохранит свой цвет, свой красочный слой и т. п. Как видим, здесь просматривается та же тенденция, что и в песчаной скульптуре, перформенсе, хэппенинге и иных формах актуального искусства. Смещение «центра тяжести» с результата на процесс, на творческое действие.
46
Параллельно с эволюцией искусства от вещности к процессуальности и беспредметности появляются и новые философские интерпретации творчества, в том числе — творчества художественного. Так, например, Н. А. Бердяев (ограничимся этим примером) еще в 1914 году (в работе «Смысл творчества») резко противопоставил творческий акт и артефакт как его объективированный в культуре результат. По Бердяеву, более ценным в творческой деятельности является акт, поскольку он всегда богаче, чем результат. Именно в акте, а не в его результате человек выступает как свободное и творческое существо. Результат же, произведение, — заведомо есть нечто ограниченное, «неполноценное» по сравнению с творческим актом, в нем творческий порыв оплотневает в мертвой, самотождественной форме произведения. Произведение хотя и есть результат творчества как события, как акта, но как вещь оно положено вне творца и есть что-то данное, внешнее, навязчивое, «культурное». На тему приоритета акта над результатом Бердяев написал немало ярких страниц. Вот несколько его изречений на эту тему: «Творчество для меня не столько оформление в конечном, в творческом продукте, сколько раскрытие бесконечного, полет в бесконечность» (Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2 т. — М.: Искусство. — 1994. — Т. 1. — С. 236). «...Под творчеством я... понимаю не создание культурных продуктов, а потрясение и подъем всего человеческого существа» (Бердяев Н. А. Самопознание. — Париж, 1949. — С. 227—228).
Бердяев обесценивает то, что всегда рассматривалось как венец творческого деяния, как мерило творческого дара, чтобы возвысить особенное состояния творца, в котором тот реализует себя как свободное существо, как личность (свобода у Бердяева весьма близка по своему содержанию Бытию Хайдеггера; но то, что Бердяев называет бытием, Хайдеггер называет сущим, а то, что немецкий мыслитель называет Бытием, Бердяев именует Ничто). Свобода выводит человека за пределы бытия (сущего), поскольку она есть не то или иное бытие, а ничто. Творческий акт как манифестация свободного духа превращается из средства воплощения художественного замысла в цель творчества, актуальность мимолетного состояния подъема ценится выше относительно прочного результата. Уже незадолго до своей смерти Бердяев писал: «По-прежнему я думаю, что самое главное — достигнуть состояния подъема и экстаза, выводящего за пределы обыденности, экстаза мысли, экстаза чувства. Моя всегдашняя цель не гармония и порядок, а подъем и экстаз» (Там же. С. 347).
47
Обесценивание произведения как вещи культуры и сдвиг внимания к творческому акту возможны для Бердяева потому, что он уже не видит (в отличие от мыслителей прошлых эпох) в произведении искусства воплощения абсолютного; произведение — это окаменевший след, оставленный в культуре творческим актом, дух же — то, что всегда «ускользает», не задерживаясь в определенности формы.
За всем многообразием художественных исканий авангардистов можно обнаружить то общее всему постклассическому искусству стремление, которое Н. А. Бердяев в своей философии творчества предвосхитил в утверждении приоритета творческого акта (акта творчества как особого расположения творца) над «вещностью» артефакта как его окаменевшего «следа». И в самом деле, на протяжении всего XX века мы видим, как художественное произведение чем дальше, тем больше развоплощается, растворяется в процессуальности. Сначала то, что классическая эпоха определяла как «содержание» художественного произведения, перестает походить на видимое в окружающем мире. Через ряд промежуточных этапов отмирает и само произведение как вещь, сотворенная художником... На месте художественного произведения оказывается готовая вещь машинного или ремесленного производства (фотография, реди-мейды, начиная со знаменитого дюшановского «Фонтана», и т. п.). Таким образом, пафос развоплощенного творчества в философии Николая Бердяева, его стремление сместить фокус философского внимания (а вместе с тем и его ценностный центр) с результата на акт, с творения на творчество из философской интуиции творчества давно уже стало повседневной практикой художников-авангардистов.
>43 Следует в то же время отметить, что «эффект», на который рассчитывает художник-авангардист, задачи, которые он перед собой ставит, часто носят не только и не столько эстетический, сколько исследовательский характер (бесконечный эксперимент по обнаружению границ искусства, по обнажению художественного приема, художественного видения мира и человека, визуально-предметный комментарий к психологическим и философским концепциям бессознательного, выявление неосознаваемых людьми ценностей, стереотипов сознания и т. п.).
48
В «Дзэнтяроку» («Записки о дзенском чае») эта мысль выражена следующим образом: «Приготовление чая — {это} полностью Закон дзена, средство постижения собственной природы (естества). <...> Чайное действие... похоже на уловочное знание. Заниматься приготовлением чая — способ постижения {сути бытия}, высвечивание исконной доли, и {это} не отличается от методов обращения, {используемых} буддами» (Записки о дзенском чае //Логос. Вып. 1. 1991. С. 152).
49
Именно так понимает глубинный смысл чайной церемонии А. Игнатович, ссылаясь при этом на ее истолкование японскими исследователями: «По мнению Т. Такинава... чайная церемония как нечто целое сама по себе является видом искусства, не вписывающегося в традиционные европейские представления. Действительно, чайное действо направлено на создание у его участников определенного... психологического настроя... приближение их к состоянию, в котором находится буддист, переживающий просветление. Этой генеральной задаче подчинены планировка чайной комнаты и сада около чайного домика, элементы интерьера, чайная утварь и, с другой стороны, ритуал чаепития» (Игнатович А. Н. Философские, исторические и эстетические аспекты синкретизма (на примере «чайного действа»). — М.: Рус. феноменологич. об-во, 1996. С. 6).
Ту же оценку чайного действа мы находим и у Е. С. Штейнера: «Подобно рэнга, искусство чая было особым видом коллективной эстетической деятельности. Проведение чайного действа подразумевало, что гости были знакомы с ритуалом и творчески участвовали в церемонии. От знания и выполнения правил „игры“ зависело ее осуществление. Собственно, роль хозяина сводилась к зачину в игре, к выбору тех или иных предметов (свиток, чайная чаша, цветок в вазе), которые служили возбудителями состояния отрешенности от объектов, времени и самих себя. Основной эффект, на достижение которого было направлено чайное действо, заключается в обретении итидза (букв, „единого сидения“, „сидения в единении“), т. е. сочувствия и сомыслия людей, что заставило бы каждого забыть о своем „я“.
Это с виду светское эстетизированное действо, находящееся на границе между искусством и игровым времяпрепровождением, имеет те же самые цели, что и собственно дзэнская практика» (Штейнер Е. С. Иккю Содзюн. Творческая личность в контексте средневековой культуры. — М.: Наука, 1987. С. 208).
50
«Ни у кого еще баня не топилась. Потом будут, к вечеру, — на скорую руку, кое-как, пых-пых... Будут глотать горький чад и париться. Напарился не напарился — угорит, придет, хлястнется на кровать, еле живой — и думает, это баня. Хэх!..» (Шукшин В. М. Указ. соч. С. 256).
«Эх, жизнь!.. Была в селе общая баня, и Алеша сходил туда разок — для ощущения. Смех и грех! Там как раз цыгане мылись. Они не мылись, а в основном пиво пили. Мужики ворчат на них, а они тоже ругаются: «Вы не понимаете, что такое баня!» Они — понимают! Хоть, впрочем, в такой-то бане, как общая-то, только пиво и пить сидеть. Не баня, а недоразумение какое-то. Хорошо еще не в субботу ходил; в субботу истопил свою и смыл к чертовой матери все воспоминания об общественной бане» (Шукшин В. М. Указ. соч. С. 263).
51
Разработку вопроса о художественно-эстетическом начале в искусстве и о той парадоксальной ситуации, с которой сталкивается исследователь художественного произведения, читатель найдет в Приложении 3. В этом приложении дан анализ ограничений, накладываемых на ученого-гуманитария (литературоведа или искусствоведа) спецификой предмета его научных изысканий, и показано, в чем именно состоит отличие философского анализа художественного произведения от его научного (литературоведческого или искусствоведческого) анализа.
52
Рассмотрению вопроса о соотношении художественного произведения и произведения искусства посвящено Приложение 4. В исследовании специфики художественно-эстетических расположений важно отделять собственно художественные произведения от произведений, которые могут функционировать в качестве «художественных», но по своему замыслу и происхождению таковыми не являются. Мы не ставим перед собой задачи дать дефиницию искусства, которая позволила бы объединить в этом понятии то, чем занимается гончар и живописец, иконописец и художник-концептуалист, наша задача в другом: проанализировать, с какими эстетическими расположениями человек может иметь дело, если они (расположения) возникли в процессе его общения с артефактом, созданным ради того, чтобы «пробуждать эстетические чувства». Поэтому в поле нашего зрения попадают только произведения, которые имеют своей целью производство эстетического эффекта.
Когда на страницах этой книги говорится об искусстве, то имеется в виду искусство создания художественных произведений или же сами эти произведения (артефакты) как результат деятельности художника (а не ремесленника, ученого, социального реформатора). При этом мы исходим из того, что термин «искусство» много шире термина «художественное произведение», и если мы продолжаем им пользоваться, то делаем это из стилистических соображений.
53
Конечно, и то место, которое человек посещает ради того, чтобы оказаться в эстетическом расположении, также можно попытаться рассмотреть как произведение искусства (как творение Бога или как творение Природы), но такое расширение области «художественных артефактов» растворяет проблему «художественного» в объемлющем его «эстетическом» и лишает нас возможности удержать специфику художественно-эстетических феноменов. Мы придерживаемся в данном случае традиционного представления, в соответствии с которым художественными произведениями можно считать только предметы, созданные человеком из того или иного материала и нацеленные на производство эстетического эффекта, а все остальные предметы, зарекомендовавшие себя как эстетически действенные предметы и функционирующие в качестве «вещей, инициирующих эстетическое переживание», не могут быть отождествлены с произведениями художественно-эстетической деятельности.
54
Очевидно, что реди-мейды не могут рассматриваться в качестве художественных произведений ни тогда, когда выставленный на обозрение публики предмет обладает способностью производить эстетический эффект (если в музее выставлена, к примеру, живописная коряга, причудливой формы необработанный человеком камень и т. п.), ни тогда, когда он такой способностью не обладает и воздействует на привычные представления обыденного сознания, заставляя зрителя задуматься над тем, что, собственно, есть то, что он привык называть «произведением искусства» (а именно на такой эффект рассчитывает художник, выставляющий на обозрение публики писсуар, консервную банку, велосипедное колесо и т. п.).
55
В культурных традициях ряда стран (и особенно ярко — в Японии) феномен эстетического паломничества тесно переплетается с феноменом художественно-эстетической деятельности, поскольку в процессе коллективного созерцания преэстетически значимого явления природы создается что-то вроде рамы или ризы, концентрирующей внимание паломников на созерцаемом явлении и обеспечивающей условия для его восприятия. Часто такого рода синкретичные формы эстетического паломничества переплетаются также и с феноменом эстетического действа, поскольку в процессе совместного созерцания преэстетически значимого явления люди включаются в совершение особого рода ритуала, работающего на эстетическое событие как цель эстетического паломничества. Всеволод Овчинников в своей книге о Японии так описывает любование «самой красивой в году луной» в Киото, «в день девятого полнолуния по старому календарю», в храме Дайгакудзи: «Мне посоветовали приехать туда до темноты, потому что уже в половине шестого из-за горы за озером поднимается неправдоподобно большая, круглая, выкованная из неровного золота луна. По озеру среди серебрящихся листьев кувшинок двигались две крытые лодки: одна с головой дракона, другая с головой феникса. На каждой из них светились бумажные фонарики, похожие формой на луну. Как и большинство посетителей, я тоже устремился прежде всего к лодке и, лишь сделав в ней круг по озеру, отправился на широкий помост перед храмом. Оттуда было лучше всего любоваться луной и ее отражением в озере. Лишь тут я понял, что лодки с драконом и фениксом для того и плавали по озерной глади, чтобы еще больше облагораживать эту картину, создавать у нее передний план» (Овчинников В. Указ. соч. С. 42—43). Во время прогулки по озеру в лодке выполнялся особый ритуал: девушка-лодочница угощает всех в ней сидящих чаем: «Каждая девушка должна была подойти к пассажиру, встать перед ним на колени, сделать глубокий поклон, почти касаясь лбом пола, а затем предложить ему пряник в виде луны и чашу с напитком, приготовленным по всем правилам чайной церемонии» (Там же. С. 43). В данном случае мы имеем дело с сочетанием эстетического паломничества к преэстетически значимому явлению природы (и оно занимает центральное место в описанном Овчинниковым эпизоде) и активной деятельности человека по созданию обстановки, в которой явление природы (полная луна) могло бы полностью эстетически реализоваться. Такого рода народное празднество можно определить как промежуточное явление, располагающееся между эстетической деятельностью вне искусства (эстетическое паломничество плюс эстетическое действо) и эстетическим как областью специальной, художественной деятельности. Центром эстетической деятельности выступает здесь «полная луна», но она вставлена в прекрасную «раму», «облагораживающую картину», созданную специально для созерцания «самой красивой в году луны», а любование ей обставлено особой церемонией, создающей необходимую для созерцания атмосферу праздника и сосредоточенности, которая в свою очередь способствует созданию в душах людей настроения, благоприятствующего встрече с полной луной.
56
Напомним, что, употребляя термин «искусство», мы имеем в виду художественное творчество. Это важно зафиксировать, поскольку мы исходим из необходимости различать концепты «искусство» и «художество» (см. Приложение 4). Использование термина «искусство» в ходе обсуждении проблем художественного творчества объясняется соображениями стилистического характера и традицией употребления слова «искусство» в ряду понятий, чей вербальный образ включает в себя это слово (например: «произведение искусства», «искусство авангарда», «классическое искусство» и т. д.).
57
Кун Н. А. Что рассказывали греки и римляне о своих богах и героях. — М.: Греко-латинский кабинет, 1992. С. 125.
58
Михаил Чехов в своей книге «О технике актера» писал по этому поводу следующее: «Может возникнуть вопрос: как следует изображать на сцене безобразные положения и отталкивающие характеры? Не потеряют ли они своей выразительности, если режиссер и актеры в этом случае не откажутся от принципа красоты? И здесь мы снова должны различать тему и средства выразительности. Все безобразное, злое и уродливое имеет право на существование в искусстве только как тема, но не как средство выразительности. Отрицательное явление или характер, изображенные на сцене неэстетично, вызовут в зрителе чисто физическую реакцию нервов. Претворяющая и возвышающая сила искусства в этом случае останется парализованной. Наоборот, эстетически изображенное само по себе неэстетическое явление (тема) из частного случая (как в жизни) становится идеей (как в искусстве) и перестает вызывать чисто физическую реакцию зрителя» (Чехов М. А. Литературное наследие. В 2 т. Т. 2. Об искусстве актера. — М.: Искусство, 1986. С. 246). Мы видим, что Мих. Чехов (не только теоретик, но, что особенно важно для нас, практик сценического искусства) солидаризируется с Аристотелем, обусловливая возможность изображения безобразного, уродливого, злого в рамках художественного творчества только в том случае, если его восприятие будет «эстетизировано», то есть идеализировано посредством прекрасной художественной формы. И мы должны согласиться с суждением М. Чехова, что «неэстетическое явление» (а по нашей терминологии — явление, принадлежащее к отвергающим эстетическим расположениям) не может быть целью художественного творчества. Но вместе с тем мы не согласны, что преэстетически отвергающие предметы не могут работать в искусстве в качестве отвергающих, а не утверждающих предметов восприятия...
59
Эстетическое — чувственная данность Другого, особенного. Расположенность Другого есть в то же время расположенность человека. Эстетическое расположение может быть автореферентным, то есть может располагаться в теле переживающего Другое человека, чтобы затем перекинуться на предметы окружающего его мира, однако чаще оно изначально связано с некоторой внешней для человека предметностью, с телесностью, которая, в рамках длящегося события эстетического расположения, воспринимается и переживается как прекрасная, возвышенная, ветхая, юная, безобразная, ужасная, страшная и т. д. Само собой разумеется, что эстетические чувства, поскольку они посещают человека в процессе восприятия произведения искусства, всегда будут иметь внешний референт, за которым скрывается встреча с Другим в том или ином его модусе. Художественное произведение и его специфическая «вещность», «телесность» выступают в качестве преэстетического условия-стимула к встрече с особенным, Другим в форме его чувственной данности. В театре внешним референтом ху-дожественно-эстетического переживания будет все театральное действо: сцена, декорации, световое и звуковое сопровождение спектакля, зрительный зал и разыгрываемая на сцене пьеса.
60
Актеры отличают сценическое чувство от неочищенного, «эгоистического» чувства, принадлежащего не герою пьесы, а Ивану Ивановичу Иванову, артисту Н-ского театра. Михаил Чехов, один из самых глубоких теоретиков актерского мастерства, писал: «...С процессом использования личных, реально пережитых чувств связаны две опасности. Одна из них заключается в том, что можно „завязнуть“ в чувствах, вызванных из прошлого и вновь переживаемых нами. <...> Это обеднит наши сценические чувства, сделает их слишком личными, эгоистическими, то есть такими, какими они и были в соответствующий момент в прошлом. Такие чувства не пригодны для сцены, они слишком субъективны, личностны, и наблюдать их очень неприятно. Зрителя они отталкивают — он всегда чувствует, что эти чувства чересчур уж личностны, и не хочет видеть, как вы действительно страдаете, действительно плачете, действительно радуетесь (здесь и ниже курсив мой — Л. С.). Сценическая жизнь имеет свои законы. Переживаемые на сцене чувства не вполне реальны, они пронизаны неким художественным ароматом, что совершенно не свойственно тем чувствам, которые мы испытываем в жизни... <...>
Другая опасность имеет не сценический, а чисто человеческий характер. Сама природа требует, чтобы мы забывали личные переживания, давали им погрузиться в наше подсознание. Если же мы не в состоянии забыть наши переживания или если мы постоянно извлекаем их из памяти и „подогреваем“ их, это может привести к опасным последствиям. Мы можем утратить душевное равновесие... <...> Это имеет отношение скорее уж к области психиатрии...» (Чехов М. А. Литературное наследие. В 2 т. Т. 2. С. 380).
61
См.: Толкин Дж. Р. Р. О волшебных историях // Толкин Дж. Р. Р. Древо илист. — М., 1991. С. 62—74.
62
Следует подчеркнуть, что художественное произведение обязательно несет с собой (преэстетически) какое-то расположение, но замысел произведения не обязательно предполагает фигуративность выражения замысла произведения. Когда же художник прибегает к изображению вещей и ситуаций, то образы, которые он создает, могут быть сколь угодно сильно деформированными, искаженными, отвлеченными от «реальных вещей» повседневного мира. С эстетической точки зрения важно, чтобы сотворенное художником (не важно, «напоминает» оно нам что-то или нет) было эстетически действенным, чтобы оно производило художественно-эстетический эффект.
63
Совершенно очевидно, что возможность появления собаки Баскервилей перед сэром Генри должно по-разному воздействовать на сэра Генри и на читателя повести Конан Дойля. Читатель включен в происходящее в окрестностях Баскервиль-холла иначе, чем персонаж повести: собака Баскервилей для него — только «виртуальная собака», в то время как для сэра Генри (в том вымышленном мире, в котором он находится) она реальна. Отождествляя себя с ситуацией, описываемой повествователем, читатель содрогается от жуткого воя загадочного существа, но его сознание все время удерживает дистанцию между ним как читателем повести и всем тем, что он встречает в художественном мире произведения.
64
О различиях в воздействии на человека переживаний сопряженных с «живым образом» (то есть с реальной вещью Первичного мира) и с образом, принадлежащим ко Вторичному миру, к художественной реальности хорошо писал Б. П. Вышеславский: «Искусство недовоплощает, оно не творит живого лица, мечта о Галатее остается мечтой. Но живое лицо обладает бесконечно большей силой своим живым образом воспламенять фантазию, проникать в „сердца и утробы“, преображать сознание и подсознание. Любовь преображает человека, и любовь есть состояние преображенного человека... Подлинный Эрос вызывается только реальным существом, реальным лицом» (Вышеславцев Б. П. Этика преображенного эроса. — М.: Республика, 1994. С. 70).
65
При всем при том не стоит забывать, что художественно-эстетическая «игра в ужас» небезопасна для играющего в нее. Опасность состоит в том, что всегда сохраняется риск утраты границы, отделяющей художественный мир (как область игрового, онтически условного столкновения с Небытием) от мира, в котором находится мое тело, от Первичного мира. Ведь может случиться так, что человек, воспринимающий происходящее в пространстве художественного мира, примет его за то, что имеет место в Первичной реальности. В этом случае страх, ужас, безобразие из художественно-эстетических феноменов превратятся в эстетические феномены и человек может погрузиться в пучину не условного, а безусловного, настоящего ужаса, страха, отвращения, тоски со всеми вытекающими отсюда последствиями.
66
Здесь также важно то, что, к примеру, книжка стихов и по названию своему, и по своему внешнему оформлению, и по характеру размещения текста на ее страницах, и по иллюстрациям к стихам во весь голос заявляет о себе как об артефакте, так что читатель оказывается надежно защищен от того, чтобы смешать «поэтическое» и «бытовое».
67
Мы говорим «почти», поскольку внешний вид книги, характер печати, помещенные в ней иллюстрации, заставки и другие детали в ее художественном оформлении также участвуют (косвенно) в создании того впечатления, которое она производит в качестве литературного текста на читателя. Впрочем, талантливое произведение вполне способно произвести художественный эффект, даже если книга как вещь полностью лишена каких бы то ни было художественных достоинств.
68
Садово-парковое искусство, к примеру, ограничено сферой преэстетической подготовки утверждающих эстетических расположений. Преэстетически мрачные, монотонные и уродливые предметы могут вводиться в состав парка только в качестве контраста, позволяющего обострить чувство прекрасного, возвышенного, юного и т. д. у посетителя парка или сада.
69
В реалистической живописи и графике они более ограничены, чем в абстрактном искусстве, где формы вещей реального мира так или иначе деформируются, что увеличивает возможности работы в горизонте эстетики отвержения, поскольку деформации способствуют отделению Вторичного мира на полотне от мира по эту сторону рамы.
70
Отвращение как «непредвиденный» художественно-эстетический эффект от встречи с артефактом возникает гораздо реже, чем эффект скуки, и предполагает особые условия восприятия, касающиеся личного опыта реципиента. Так, например, образцовое произведение социалистического реализма, автор которого пытается пробудить у читателя восхищение «людьми труда», вызвать чувство «гордости за родную страну» и т. п., вполне могло вызвать у советского политзаключенного не просто скуку, но именно отвращение, хотя в данном случае было бы затруднительно отделить в этом чувстве его нравственные, этические компоненты от собственно эстетических аспектов рецепции.
71
Соображения могут быть, например, такими: надо прочитать, потому что... «это читали мои друзья», «об этом все говорят», потому что автор — мой приятель, потому что знакомство с этим произведением необходимо для реализации моего собственного исследовательского замысла или, наконец, потому что до отхода поезда еще много времени и надо хоть как-то его «убить» и т. д.
72
Здесь следует, однако, оговориться, что в некоторых (редких) случаях скука может быть художественно-эстетическим расположением, к которому автор готовит реципиента вполне сознательно. Такую скуку следует квалифицировать как относящуюся к ситуации третьего типа.
73
Сходную мысль высказывал в свое время мыслитель совсем другого направления. Мы имеем в виду В. Вейдле, для которого вся постклассическая эстетика — это эстетика романтическая, так что, по Вейдле, европейская культура и искусство, поскольку они не покидают пределов художественно-эстетического как своей энтелехии, основаны, прежде всего, на эстетике возвышенного, на поисках утраченного Смысла (абсолюта, «общей идеи», гармонии...) См.: Вейдле В. Умирание искусства // Самосознание европейской культуры XX века. — М., 1991.
74
Прокофьев В. Н. Ансамбль росписей нижнего этажа Дома Глухого. 1820 // Мастера классического искусства Запада. — М.: Наука, 1983. С. 135.
75
Там же. С. 131.
76
Прокофьев В. Н. Указ. соч. С. 139—140.
77
Прокофьев В. Н. Указ. соч. С. 145—149. Не могу не выразить сомнения в удачности термина «трагигротеск». Вряд ли стоит все анормальное (а Небытие как то, что являет себя как ужасное, страшное, отвратительное, есть анормальность в ее чистом, первичном «виде») определять как гротескное. «ГРОТЕСК (фр. grotesque — причудливый, затейливый) — чрезмерное преувеличение и заострение отдельных сторон эстетического предмета, которое ведет к разрушению существующих в действительности связей, к замене их контрастным соединением, казалось бы несоединимых свойств и объектов» (Эстетика: словарь. — М., 1989. С. 68). Как видим, гротеск предполагает «чрезмерное преувеличение и заострение отдельных сторон эстетического предмета», но в Доме Глухого не отдельные стороны «изображаемых предметов», а все они целиком есть воплощенная не-нормальность, аномальность, Небытие, обретшее вид и форму. Для того, чтобы говорить о гротеске, нужно иметь что-то негротескное, но когда эстетика всего ансамбля настраивает на художественно-эстетический опыт в русле эстетики отвержения, эстетики Небытия, то о гротеске говорить не приходится («сплошной» гротеск — уже не гротеск). То же и с трагедией. Если удерживать в понятии «трагедия» ее исконную связь с «героическим», то росписи Гойя далеки от трагедии, поскольку они не показывают нам того активного начала в борьбе с Небытием, которое дало бы нам повод говорить здесь о трагедии в классическом смысле слова. То обстоятельство, что созерцание росписей Дома Глухого рождает чувство неизбывного трагизма человеческого бытия, еще не дает нам права отнести живопись Гойя к жанру трагедии или трагигротеска.
78
Мы говорим «до некоторой степени», поскольку опыт художественно-эстетического отвержения, с одной стороны, сознательно готовится, а с другой — его достижение остается лишь возможным результатом деятельности. Художественно-эстетическая деятельность произвольна, ее результат — непроизволен.
79
В. Н. Прокофьев, описывая монументальную живопись в Доме Глухого, использует для ее характеристики эпитеты «необыкновенная», «исключительная», «трудно постижимая», «интенсивная», «исступленная», «приводящая в ужас», «трагическая», «черная», «шоковая», «сеющая страх», «ошеломляющая», «пугающая», «неописуемая», «обладающая сокрушительной силой экспрессивного и апеллятивного воздействия» и т. п.
80
Отсюда понятно значение «рамки», отделяющей художественное от мира нашего повседневного бывания, для художественного творчества. Попытки многих художников XX века разрушить границу, отделяющую искусство от жизни, ведут к разрушению искусства как особенной эстетической деятельности. В этом отношении весьма показателен опыт художников-концептуалистов, обнаруживший «естественную» границу искусства как художественно-эстетической деятельности.
81
См.: Кристева Ю. Силы ужаса: эссе об отвращении. — СПб: Але-тейя, 2003. Подробный разбор концепции Кристевой см.: Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма. — СПб.: Алетейя, 2000. С. 117-128.
82
Маньковская Н. Б. Указ. соч. С. 120—121.
83
Маньковская Н. Б. Указ. соч. С. 121.
84
Уточним: в разделе 2.1 речь шла, разумеется, не о том, как в процессе художественно-эстетической деятельности человек «приручает» Небытие, а о том, как он «ловит» его в силки артефакта, «сажает в клетку» и созерцает через ее «прутья» Другое-как-Небытие: артефакт здесь — это и ловушка, и клетка для отвергающих модусов чувственной данности Другого.
85
Сказанное, разумеется, не означает, что художественное произведение (особенно литературное произведение) не может быть воспринято как интересное и (или) ценное не с эстетической, а с какой-то другой (религиозной, интеллектуальной, партийной и т. д.) точки зрения. Но такая актуализация произведения не тождественна его актуализации в качестве художественного произведения. В том случае, когда мы имеем дело с эстетическим опытом, кристаллизовавшимся в теле художественного произведения, то это произведение (как особенная вещь) гарантирует чистоту эстетического переживания от привнесения в него чувств, в которых эстетическое отношение к предмету смешивается с неэстетическим. Иначе говоря, смысловое содержание художественного произведения может быть использовано в неэстетических целях, но сам артефакт — артефакт как единство чувственного, воображаемого и смыслового, как проработанная замыслом художника материя (как особенная вещь) — находится по ту сторону житейских потребностей, интересов и действий.
86
Чехов А. 77. Полн. собр. соч. и писем. В 30 т.; Соч.: В 18 т. — М., 1974-1982. Т. 7. С. 166.
87
У Чехова речь идет именно о чувстве неотразимой Красоты, о чувстве безусловно прекрасного, а не о чем-то/ком-то более или менее красивом.
88
Этот миф послужил основой для целого ряда художественных произведений, в которых обыгрывается тема мифа о Пигмалионе и Галатее (драма Руссо, рассказ Й. Я. Бодмера, стихотворение Шлегеля, комедия Б. Шоу, кантата И. К. Ф. Баха, опера Рамо и Керубини, оперетта Зуппе «Прекрасная Галатея»; в России тема ожившего портрета и любви к ожившей женщине была реализована А. Н. Толстым в повести «Граф Калиостро», по мотивам которой М. Таривердиев написал одноименную оперу).
89
Кун Н. А. Указ. соч. С. 55.
90
Там же. С. 56.
91
Создание произведений в горизонте эстетики возвышенного имеет столь же долгую историю, как и творчество в горизонте прекрасного, но одно дело — иметь что-то в опыте и совсем другое — выделить это что-то, назвать его по имени, сконцентрировать на нем внимание.
92
О феномене беспричинной радости см. Приложение 1, а также в кн.: Лишаев С. А. Эстетика Другого. С. 198—206.
93
Чувство эстетического удовольствия, сопровождающее переживание ветхого, затерянного, прекрасного, юного, etc., также беспричинно, беспредметно и онтологически позитивно как и беспричинная радость: его возникновение не может быть с необходимостью выведено из свойств объекта восприятия или из определенного состояния воспринимающего соответствующее явление человека, но при этом такого рода удовольствие (благодаря его локализации в специфической предметности) осознается не просто как чувство радости и полноты, но именно как ветхое, прекрасное, затерянное, возвышенное и т.д. Например, эстетический опыт ветхого увязывается с предметами, маркированными (в языке), благодаря их «внешним данным», как «ветхие предметы». Но беспричинно радостное не может быть увязано с какой-то специфической группой предметов, с определенной конфигурацией пространства, поскольку не существует вещей, которые можно было бы назвать «радостными» и которые личный или культурный опыт позволял бы удерживать в качестве преэстетически радостных предметов.
94
Выбирая для сопоставления именно эти искусства, мы руководствовались тем соображением, что различия в эстетических возможностях разных направлений художественного творчества лучше всего выявлять через сопоставление тех видов искусства, которые максимально отличны друг от друга по материалу и по характеру его художественной проработки. Мы уже сопоставляли феномены литературного творчества с феноменами садово-паркового искусства, когда анализировали возможности преэстетической подготовки отвергающих художественно-эстетических расположений в разных видах искусства, теперь мы обращаемся к их исследованию с тем, чтобы прояснить вопрос об отличии одних искусств от других по их пригодности к подготовке встреч с утверждающими эстетическими феноменами.
95
Если бросить взгляд на развитие художественного слова, мы увидим, как выразительная в художественном отношении речь из устной стала письменной, и как эстетика «звучащего слова» мало помалу отступила на второй план. Первая форма маркированного слова — это слово сакральное, ритуальное, обрядовое, а рядом с ним — слово эпической поэзии, слово певца, сказителя, барда. Записанное слово эпоса долго звучало в степи и в лесу, на берегу моря и под защитой каменных стен, на пиру и в походе. Позднее, когда литература обособилась от «устного народного творчества», люди долго читали вслух, читали даже тогда, когда это было уединенное чтение. Чтение «про себя» — позднее явление, а привычка читать «шевеля губами», сохранялась в русских деревнях до самого недавнего времени. Такой тип чтения можно наблюдать и сегодня, когда читают дети или старики, не получившие образования. Чтение-проговаривание «про себя» во многом сохраняет темп и ритм, характерные для «чтения вслух».
Следующий этап — быстрое чтение с произнесением слов «про себя», без уловимого извне движения губ. Характер речи меняется, слово перестает быть только лишь записью звучащего слова, оно «проглатывается целиком», не «разжевывается» фонетически (хотя и как-то еще проговаривается): читатель торопливо схватывает смысл повествования, в его сознании возникают соответствующие образы, но записанное слово теряет здесь те каналы воздействия на человеческую душу, которые были присущи звучащему слову.
Вслед за скомканностью проговаривания «про себя» наступает момент, когда текст схватывается визуально без какого-либо намека на внутреннюю речь. Это характерно для так называемого «быстрого чтения», которое сворачивает чувственное восприятие слова до предела; для чтения художественного произведения эта технология чтения не годится (такой тип чтения можно назвать «информационным»). Развитию навыков быстрого чтения способствуют газета, журнал, развлекательная литература (литература-курортов-и-пляжей, литература-для-общественного-транспорта), а также работа с текстом на экране компьютера, где слово превращается в чистый знак-указатель и служит путеводителем по передвижению в виртуальном мире.
Быстрое чтение, съедающее фонетическую выразительность речи, препятствует и раскрытию графических потенций письма. Экспрессивные возможности графического начертания слова достаточно велики, но и здесь побеждает тенденция к упрощению, к демократизации, к «экономическим» стратегиям обращения со словом. В исторической перспективе обнаруживается тенденция к эволюции каллиграфического искусства от «плетения словес» в рукописных книгах Средних веков к усредненным печатным шрифтом XVIII—XXI столетий. Очевидно, что буква и слово рукописной книги гораздо более выразительны, чем печатные слова, а современные шрифты уступают в экспрессивности печатным буквам в книгах XVI—XVII веков. (Если говорить о России, то орфографическая реформа 1918 года ознаменовала новую фазу упрощения алфавита и, как следствие, дальнейшей деградации визуаль-но-графической выразительности текстов.)
Таким образом, можно констатировать долговременную тенденцию к ослаблению эстетических потенций художественного слова в его фонетике и графике. Компьютерная страничка с текстом — еще один шаг по пути дематериализации и визуализации слова. Книга остается вещью среди вещей и воспринимается как особый предмет с присущим ему цветом, с фактурой обложки и с бумагой, на которой напечатан текст. Книга — это предмет, хранящий на себе следы времени и рукописных маргиналий на пожелтевших от времени страницах, в то время как компьютерный текст произведения (со стороны его внешней, чувственно-визуальной данности) — это экранный «эффект» функционирования компьютера, не существующий независимо от работающей машины.
Здесь мы имеем дело с экраном, и все, что мы обнаруживаем на нем, не имеет устойчивого субстрата: шрифт может быть изменен нами произвольно; цвет «листа», величина шрифта и проч. могут трансформироваться пользователем «по желанию». Эстетические потенции слова как плоти все больше редуцируются, а его смысловая, а точнее — знаково-информационная сторона становится все более значимой.
96
Эту сторону (знаковую, мировоззренческую) садово-паркового искусства особенно ценил Д. С. Лихачев, неоднократно писавший о философской, идеологической и мировоззренческой составляющих в восприятии памятников этого искусства. И все же нельзя не отметить содержательно-смыслового минимализма языка парков, разговаривающих с человеком (по преимуществу) не на языке понятий, а на языке чувств. Мы полагаем, что Д. С. Лихачев преувеличивал роль семантического, историко-мемориального аспекта эстетической действенности парковых ансамблей. Описав эстетическую действенность парка, он делает замечание, которое сводит на нет своеобразие эстетической действенности парка как парка, а не как природного ландшафта: «Но при чем же тут человек, спросят меня? Ведь это то, что приносит вам природа, то, что вы можете воспринять, и даже с большей силой, в лесу, в горах, на берегу моря, а не только в парке. Да, так, но есть еще одна сфера, которую всем дает по преимуществу парк, или даже только парк. Это сфера — исторического времени, сфера воспоминаний и поэтических ассоциаций. Исторические воспоминания и ассоциации — это и есть то, что больше всего «очеловечивает» природу в парках и садах, что составляет их суть и специфику (курсив мой — Л. С.). Парки ценны не только тем, что в них есть, но и тем, что в них было» (Лихачев Д. С. Земля родная. — М., 1983. С. 68). Из этого высказывания следует, что новые, только что созданные парки, а также парки, в которых отсутствуют семантизирующие парковую среду артефакты неприродного происхождения, — вообще не парки. Это, с нашей точки зрения, слишком сильное утверждение. Ведь сами по себе деревья, лужайки, аллеи, камни, пруды, если только к ним приложил руку художник, уже несут в себе некий смысл: художник потому и разместил их таким, а не иным образом, чтобы оказать эстетическое воздействие на посетителя сада или парка.
97
Лихачев Д. С. Земля родная. — М.: Просвещение, 1983. С. 68.
98
Лихачев Д. С. Указ. соч. С. 68
99
Флоренский П. А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. — М.: Прогресс, 1993. С. 111-143.
100
Такова же конструкция архитектурных памятников, особенно храмовых сооружений. Архитектура, подобно парку, имеет своим предметом мир, но опыт мирности мира здесь достигается преимущественно в таких расположениях, как прекрасное, возвышенное, ветхое, в то время как садово-парковое искусство, благодаря многообразию присущих ему выразительных средств, может достигать опыта мирности мира и на иных, связанных с другими утверждающими расположениями маршрутах.
101
О мирности мира в контексте прояснения сути утверждающих (катарсических) эстетических расположений см.: Лишаев С. А. Эстетика Другого. С. 308—325.
102
Здесь мы привязаны к одной точке зрения на мир, мы не движемся среди вещей, изображенных на картине: перед нами образ мира, являющий нам, например, какой-то пейзажный мотив, но не сам мир.
103
Следует, правда, отметить, что в отличие от сада, который мы всегда воспринимаем «изнутри», архитектурные памятники мы чаще осматриваем снаружи. В этом случает памятник архитектуры выступает как предмет в мире. Положение меняется, если мы погружаемся в архитектурную среду (площадь, улица, внутренний дворик и т. д.).
104
Отметим и то обстоятельство, что писатель редко когда ставит перед собой задачу рассказать не о чем-то, а о мире. Единственный пример, который можно привести сходу, — это «Война и мир» Л. Н. Толстого.
105
Обвеян вещею дремотой,
Полураздетый лес грустит...
Из летних листьев разве сотый,
Блестя осенней позолотой,
Еще на ветви шелестит.
Гляжу с участьем умиленным,
Когда, пробившись из-за туч,
Вдруг по деревьям испещренным,
С их ветхим листьем изнуренным,
Молниевидный брызнет луч!
Как увядающее мило!
Какая прелесть в нем для нас,
Когда, что так цвело и жило,
Теперь, так немощно и хило,
В последний улыбнется раз!..
Ф. И. Тютчев
106
См. § 2.1 настоящего издания.
107
Мы говорим «преимущественно», потому что можно предположить, что слово-как-тело работает и на такие расположения, как маленькое, большое, молодое, древнее, тоскливое, скучное и др. Во всяком случае, можно допустить (только допустить, поскольку в рамках этой книги данная проблематика не будет исследоваться специально), что звучание слова, его фонетическая форма, до некоторой степени способны преэстетически подготавливать перечисленные выше расположения. При этом разные языки обладают в этом отношении разными возможностями. Русский язык, к примеру, владеет богатым фонетическим инструментарием для подготовки таких расположений, как маленькое, молодое (благодаря широкому распространению таких уменьшительно-ласкательных суффиксов, как -оньк/-еньк, создающих звуковой образ, звуковое ощущение чего-то хрупкого, непрочного, маленького и вместе с тем милого, относящегося к миру детства и нуждающегося в защите), древнее (здесь играет свою роль распространенность в русском языке таких «усталых», старчески сипяших, шипящих и низких звуков, как «ш-ш-ш», «щ-щ-щ», «х-х-х», «ж-ж-ж», «п», «ч-ч-ч», «с-с-с», «ы-ы-ы», «у-у-у»).
Тени сизые смесились,
Цвет поблекнул, звук уснул —
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул...
Мотылька полет незримый
Слышен в воздухе ночном...
Час тоски невыразимой!..
Всё во мне, и я во всем!..
Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся в глубь моей души,
Тихий, темный, благовонный,
Все залей и утиши.
Чувства — мглой самозабвенья
Переполни через край!..
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!
Ф. И. Тютчев
108
Причем важно учитывать, что язык семантичен от начала и до конца, так что можно говорить о лексической, грамматической (синтаксис и морфология) и прагматической семантике (такого понимания семантики придерживается А. Вежбицкая; см.: Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. — М., 1996). В русском языке дополнительные эстетические возможности создают исторически сформировавшаяся в нем диглоссия и церковнославянско-русское двуязычие, давшие новому русскому литературному языку богатые возможности для подготовки таких, к примеру, расположений, как «древнее» и «возвышенное» (дочь/дщерь, голова/чело, вода/хлябь, отец/отче, дерево/древо...). Анализ феномена диглоссии в русском языке и ее значение для формирования языка отечественной литературы XVIII—XIX веков дал Б. А. Успенский (см.: Успенский Б. А. Краткий очерк русского литературного языка (XI—XIX вв.). — М.: Гнозис, 1994).
109
Стоит обратить внимание на то обстоятельство, что такое направление в искусстве XX века, как реди-мейд, лишь повторяет (и не всегда удачно) то, что уже давным-давно вошло в обиход садово-паркового искусства, где галька становится не просто галькой, а элементом композиции парка как эстетически значимого пространства, где обычная скамейка превращается из «просто скамейки» в предмет эстетического созерцания... Белка, птица, рыба, мост через ручей как бы «выставлены» в интерьере парка, оставаясь при этом белками, птицами и деревьями, живущими своей беличьей, птичьей, древесной или «мостовой» жизнью. То, что они не только «выставлены», но и продолжают жить обычной жизнью, отличает их от реди-мейдов, изъятых из «прежней жизни» и высветленных в музее.
110
Если в жизни, встретившись с ветхой вещью, человек легко проскакивает мимо нее, не воспринимает ее как предмет эстетического созерцания, то художник слова показывает ее таким образом, что хотя читатель и может проскочить мимо, но вероятность такого проскакивания существенно снижается за счет того, что художник сознательно удерживает в фокусе внимания читателя ветхость ветхих вещей как что-то само по себе притягательное и волнующее.
111
Эта функция художественного слова, в свою очередь, многослойна: слово действует на читателя не только через его прямое значение, но и через посредство сопровождающего его шлейфа эстетически действенных, активизирующих читательское восприятие и воображение коннотаций и ассоциаций. «Поэзия и хорошая проза ассоциативны по своей природе. <...> Слова в поэзии означают куда больше, чем они называют, „знаками“ чего они являются. Эти слова всегда наличествуют в поэзии — тогда ли, когда они входят в метафору, в символ или сами ими являются, тогда ли, когда они связаны с реалиями, требующими от читателей некоторых знаний, тогда ли, когда они сопряжены с историческими ассоциациями» (Лихачев А. Д. О филологии. Высш. шк., 1989. С. 205).
112
Слово в литературном произведении не только что-то «значит», но и передает различные переживания; оно передает их даже в тех случаях, когда означаемым выступает не чувство, а неодушевленный предмет: мы можем сказать «окно», а можем употребить слова «оконце» или «окошечко». Значение будет одним и тем же, а чувства, возбуждаемые эмоциональными модификациями слова «окно», будут различными.
113
Конечно, и полуразрушенная, давно опустевшая деревушка, и беседка, которая встретилась нам во время прогулки по засыпанному осенней листвой лесу, могут оказаться преэстетическим стимулом для к возникновения эстетического чувства (это может быть и чувство прекрасного, и чувство затерянного, и чувство ветхого), но, во-первых, в момент, когда мы уже захвачены одним расположением, возможность других расположений остается нереализованной (хотя в качестве подчиненной эстетическому лейтмотиву вариации такое расположение входит в состав событийно реализовавшейся эстетической данности), во-вторых, и эстетический мотив, и эстетические вариации (если только они имеют место) принадлежат к одной и той же предметности Первичного мира (уголок осеннего леса), в то время как художественно-эстетические эффекты при чтении литературного произведения, которые накладываются друг на друга, связаны с разными преэстетически действенными предметностям: с языком описания и с тем воображаемым предметом, который с помощью него описывается, изображается.
114
«...Если подражательная поэзия, направленная лишь на то, чтобы доставлять удовольствие, сможет привести хоть какой-нибудь довод в пользу того, что она уместна в благоустроенном государстве, мы с радостью примем ее. Мы сознаем, что и сами бываем очарованы ею, но предать то, что признаешь истинным, нечестиво. <...> Таким образом, если она оправдается <...> она получит право вернуться из изгнания. <...> Ведь мы обогатились бы, если бы она оказалась не только приятной, но и полезной» (Платон. Государство. Кн. 10 // Платон. Собр. соч. в4т. -Т. 3. С. 405).
115
В качестве наиболее ярких имен обычно называют Ф. И. Тютчева, Jl. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, М. А. Булгакова, О. Э. Мандельштама, etc.
116
Это И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, В. Ф. Одоевский, А. И. Герцен, В. Г. Белинский, Ап. Григорьев, В. С. Соловьев, К. Н. Леонтьев, В. В. Розанов, Л. Шестов, А. Белый, Вяч. Иванов, Н. А. Бердяев, М. М. Бахтин, Я. Э. Голосовкер, М. К. Мамардашвили и многие другие.
117
Назовем в качестве примера историко-философские работы Г. Г. Шпета (Шпет Г. Г. Истории русской философии. — Свердловск, 1991), Н. О. Лосского (Лососий Н. О. История русской философии. — М., 1991), а из наших современников А. М. Пятигорского {Пятигорский А. М. Философия или литературная критика // Ступени. СПб., № 3. С. 12—23), прямо или косвенно направленные против растворения собственно философии в истории мысли, истории культуры и, в особенности, в истории литературы.
118
Крупные открытия в науке делаются талантливыми людьми, но основной массив добываемых ей знаний доставляют исследовате-ли-профессионалы. Их работы, их достижения — это полноценные научные достижения, а вот «продукция», производимая многими «философами» и «беллетристами» прямого отношения к философии и искусству не имеет. Не каждый факт литературы — Литература, как не каждый факт «истории философии» имеет отношение к Философии. Об особой роли Искусства в искусстве Борис Пастернак (на страницах романа «Доктор Живаго») писал так: «Произведения говорят многим: темами, положениями, сюжетами, героями. Но больше всего говорят они присутствием содержащегося в них искусства. Присутствие искусства на страницах „Преступления и наказания“ потрясает больше, чем преступление Раскольникова. Искусство первобытное, египетское, наше, это, наверное, на протяжении многих тысячелетий одно и то же, в единственном числе остающееся искусство. Это какая-то мысль, какое-то утверждение о жизни, по всеохватывающей своей широте на отдельные слова не разложимое, и когда крупица этой силы входит в состав какой-нибудь более сложной смеси, примесь искусства перевешивает значение всего остального и оказывается сутью, душой и основой изображенного» (Пастернак Б. Л. Доктор Живаго. — Куйбышев, 1989. С. 271).
119
В самом деле, каждый, кто читал художественные тексты, никогда не спутает их с текстами философскими, даже если это полные поэзии тексты Платона или трагический «танец» Фридриха Ницше. На уровне нашего восприятия мы безошибочно отделяем произведения философские от произведений художественных, даже когда последние — «философичны», а первые — «художественны».
120
Здесь мы ограничиваемся общепринятым как на уровне обыденного сознания, так и на уровне философско-эстетической рефлексии признанием прекрасного (в первую очередь), а затем и возвышенного эстетическим телосом художника. Для рассматриваемого в данном приложении вопроса о соотношении замысла философа и замысла художника вопрос о том, ограничивается ли художественное творчество горизонтом таких понятий, как прекрасное и возвышенное, или нет, значения не имеет. Поэтому мы оперируем здесь исключительно традиционными для эстетического анализа феноменов искусства понятиями прекрасного и возвышенного, откладывая специальное рассмотрение вопроса об эстетических границах художественной деятельности до соответствующих параграфов второй главы этой книги.
121
В подтверждение своих слов вновь приведем отрывок из уже упоминавшегося выше романа «Доктор Живаго»: «...искусство не название разряда или области, обнимающей необозримое множество понятий и разветвляющихся явлений, но наоборот, нечто узкое и сосредоточенное, обозначение начала, входящего в состав художественного произведения, название примененной в нем силы или разработанной истины. И мне искусство никогда не казалось предметом или стороною формы, но скорее таинственной и скрытой частью содержания» (Пастернак Б. Л. Указ. соч. С. 270).
122
Отверстая тайна сопровождает каждый акт восприятия красоты: мы видим предметы, но при этом «видим» еще и их невидимую красоту. Как можно видеть невидимое? Как можно знать, что нечто существует? Мы лишь имеем дело с тем-то и с тем-то, а говорим, что это что-то существует, «есть», хотя этого «есть» нет в содержании данной нам предметности. Как мыслить что-то (о чем-то) и знать, что ты мыслишь? Мы нечто мыслим, нам нечто дано, но при этом мы знаем, что это что-то дано нам, мыслимо нами, хотя из данности (мысленного) содержания никак само собой не вытекает рефлексивное сознание его мыслимости. То, во что мы всегда уже погружены и в свете чего нам 1) нечто дано, 2) дано как прекрасное, существующее, мыслимое, есть Тайна как заданное нам и доступное лишь в косвенном движении от данного к недосягаемости «за»-данного.
123
Беспредметное начало предмета, каким бы оно ни было, — начало и цель как философского, так и художественного творческого акта. В этом смысле и предметное (миметическое, реалистическое, натуралистическое) искусство — пока оно остается искусством — беспредметно в своей художественности, в том, что делает его не просто «картинкой» или «текстом», но картиной и поэтическим произведением.
124
Так, М. К. Мамардашвили пишет о романах Пруста: «Произведение — машина для возобновления человеческих состояний. Такова идея его «произведения-машины» — в отличие от традиционного романа, который развертывается, как известно, в виде единого сюжетного повествования, вовлекающего героев в поток своего развертывания, сцепляющего все в некоторый понятный ход событий» (Мамардашвили М. К. Лекции о Прусте (психологическая топология пути). — М., 1995. С. 14). «...Такое произведение искусства является не просто опусом, а конструкцией, участвующей (как какая-то машина или механизм) в нашей собственной жизни, когда мы начинаем двигаться» (Там же. С. 22). Следовательно, в форме романа здесь выполняется то, что было названо М. К. Мамардашвили реальной философией.
125
Отсюда универсальность языка науки и сравнительная легкость перевода научных текстов. Для изучения явления (предмета научного исследования) важно — насколько это возможно — устранить само-бытие слов обыденного языка, которые продолжают использоваться в науке, чтобы в познавательном, рационально-контролируемом движении исследования не осталось никаких темных, допускающих различные толкования элементов: важно настолько подчинить слово логике исследования, чтобы добиться той однозначности, без которой логическая общезначимость его результатов оказалась бы недостижимой. Предварительное определение (соответственно — определенность) предмета исследования (а это первый шаг любой науки и любого исследования) уже задает требование определенности, однозначности и точности (в пределе — математической) в его изучении. Соответственно этому конституируется и отношение ученого к языку.
126
Разумеется, речь не идет о том, что новый философский язык должен состоять из новых слов. «Новый язык» предполагает пересоздание уже имеющегося языка: одни слова и обороты в нем появляются, другие — исчезают, третьи — переосмысливаются, четвертые — входят в него в своем старом, устоявшемся значении. Многое меняет и преобразование стилистики философского произведения, заставляющей как-то иначе, по-новому, «заиграть» давно знакомые и привычные («примелькавшиеся») слова обыденного языка или профессионально-философского «жаргона».
127
См.: Бибихин В. В. Язык философии. — М., 1993.
128
В данном Приложении речь идет о литературоведении, но это — лишь репрезентативный пример, вполне применимый, разумеется с определенными поправками, ко многим областям гуманитарного знания. Проблематику мерцающей предметности можно распространить, прежде всего, на те дисциплины, которые имеют дело с исследованием художественного творчества (музыковедение, искусствоведение, театроведение и др.), а кроме того, на многие виды исторических исследований и на философию. Рассматривая специфику взаимодействия с предметом исследования литературоведа, мы говорим о парадоксах, возникающих там, где предмет исследования устанавливается событийно и удерживается через соотнесение с той точкой-событием, в которой произведение установилось в качестве предмета анализа соответствующей дисциплины, то есть в качестве художественного творения.
129
Этот вопрос обусловлен тем обстоятельством, что литературная деятельность (как особого рода занятие и производство «литературной» продукции) — это не только то, чем занимается «литератор-художник», это также деятельность публициста, философа или, скажем, историка и т. д.
130
Вам нравится Достоевский, а мне — Толстой. Достоевский же, предположим, у меня как у читателя вызывает только раздражение. Что тут поделаешь? Никакое самовнушение («А ведь люди-то в нем что-то находят! Ведь Достоевский — гениальный художник!») здесь не поможет. Как литературовед я могу быть прекрасно осведомлен о всех великих достоинствах произведений Федора Михайловича и «формально» могу признавать их, доверяя другим читателям и авторитету культурной традиции, за «подлинно художественные», но это «формальное» признание не сделает Достоевского художником для меня лично, и его книги останутся для меня только литературой. Спрашивается, если при всем при том я возьмусь за исследование произведений Достоевского как важного явления «литературной жизни России второй половины XIX века» и доведу его до конца, будет ли оно литературоведческим исследованием?
131
О том, как и при каких условиях складывается классический канон см.: Михайлова М. В. Эстетика классического текста. — СПб.: Алетейя, 2012. — 296.
132
См.: Гиршман М. М. Литературное произведение: теория и практика анализа: Учебное пособие. — М., 1991. С. 3—14, 155—159; Тюпа В. И. Художественность литературного произведения. Вопросы типологии. — Красноярск, 1987. С. 13—91; Федоров В. О природе поэтической реальности: Монография. — М., 1984. С. 3—20, 179—183.
133
Гиршман М. М. Литературное произведение... С. 8—10.
134
Конечно, литературоведы обращают внимание и на произведения, не состоявшиеся в качестве художественных, но объясняется это тем, что их изучение проливает свет на творения, в отношении которых литературовед и/или культурная традиция имеют твердое убеждение в их эстетической состоятельности. Внимание к художественно несостоятельным явлениям литературы питается отраженным светом произведений, зарекомендовавших себя в качестве эстетически действенных творений. Эти «явления литературной жизни» принадлежат к художественной литературе условно, в своей потенции: они должны были бы иметь эстетическое достоинство, но, увы, не смогли его заслужить.
135
Даль В. И. Указ. соч. Т. 4. С. 569. Слово «художество» и производные от него прилагательные и существительные Даль рассматривает в статье на слово «Худой»: «Худой, неладный, негодный, дурной, плохой, нехороший; в чем или в ком недостатки, пороки, порча; || изношенный, ветхий, дырявый... Худо. ср. (мн. ч. нет) зло, отвлеченное понятие зла, вреда, бедствия. Не добра от худа ждать. Быть худу. Сатана худом ворочает. Худой, в виде сущ. м. сиб. злой дух, сатана, диавол. Худой его соблазнил. Худая, в виде сущ. сиб. худая болезнь, венерическая; || змея. На худую было наступил. Худая теленка ужалила, околел» (Там же. С. 568). Получается, что слова «художник», «художественный» в русском языке хотя и имеют значение положительной ценности, но в то же время находятся под подозрением: не ведет ли художество, искушенность ко злу, к беде, к небытию? Недаром тема «соблазнительности», опасности художественного творчества, тема искушений, поджидающих художника, столь активно обсуждалась русскими писателями. Достаточно вспомнить хотя бы бунт против художественного, поднятый Л. Толстым, и повесть Гоголя «Портрет». Отношение красоты и добра, творчества и спасения — вот излюбленная тема для русских мыслителей. Возможно, проблематичность отношения художественного творчества к моральному и религиозному оправданию человеческой жизни кроется уже в самой семантике русского слова «художество», которое означает как хулиганство и плохой поступок, так и изящное искусство.
136
>и Даль В. И. Указ. соч. Т. 4. С. 568.
137
Оружие, одежда, предметы религиозного культа могут быть выставлены в музее, и тогда эти предметы, не будучи по своему происхождению «художественными», в восприятии зрителя таковыми становятся, их воспринимают так, как если бы, например, иконописец писал картину на религиозный сюжет, а не икону. В художественном музее важно не священное содержание иконы, не ее чудотвор-ность, а то, в какой мере она действенна в эстетическом отношении. И советские искусствоведы именно так преподносили своим читателям древнее искусство иконописи: «...Пусть постоит наш читатель, чуть даже прищурив глаза, пока... гармония линий и красок не вовлечет его в стройный поток сияющих и плавных узоров, рождающих неповторимую музыкальность икон. Пусть, быть может, это произойдет не сразу, пусть подождет, посмотрит еще. <...> И когда нашему юноше покажется, что весь зал загорелся этой живописью, преобразился в певучести прямых и ломаных линий, не отягченных объемностью, пусть он подойдет ближе к иконам; образы-символы четкими силуэтами возникнут в волнах гармонии на древних досках, „хитро“ расписанных вдохновенными и трудолюбивыми создателями прекрасного, чьи имена в большинстве не дошли до нас» (Любимов Л. Д. Искусство Древней Руси: Книга для чтения. — М.: Просвещение, 1981. С. 202).
Если икона выставлена в художественном музее, значит, ее рассматривают в качестве «религиозной живописи», и на первый план выдвигают ее художественно-эстетические достоинства, то это значит, к ней относятся не как к иконе, а к иконописцу относится — как к художнику. (Вещь, не созданная в качестве художественного произведения, может быть воспринята как художественная и вне музея. Неверующий человек, оказавшийся, к примеру, в православном храме, может воспринимать церковное убранство, иконы с историко-культурной и эстетической точек зрения.)
Иконописец пишет «образа» как свидетельства истины веры и как видимое явление того, кто изображен на ней, с тем, чтобы верующий, молящийся перед иконой, вступил в общение с изображенным на иконе. Икона являет Истину, икона служит молитвенному общению верующего с Богом и святыми людьми и призвана пробуждать благочестивые чувства; эстетические переживания здесь остаются на втором плане, а могут и вовсе отсутствовать.
Если творец иконы, витража, фрески служит Богу, то живописец эпохи Возрождения и Нового времени служил Прекрасному (даже когда он избирал для своих картин религиозные сюжеты), и эта ценностная установка выделяет его занятие из сферы искусств-ремесел, поскольку выводит художественно-эстетическую функцию деятельности «изографа» из подчиненности задаче, стоящей перед религиозным культом; теперь именно эстетическая действенность артефакта становится мерилом для оценки таланта мастера, который в этом случае выступает уже не как иконописец («богомаз»), а как «художник» (живописец). На место критерия адекватности форм изображения божественных предметов самим этим предметам приходит критерий их соответствия суждению вкуса, критерий их художественной действенности.
138
Мастер, владеющий тем или иным ремеслом, решает не только утилитарные, но, порой, и задачи художественные: он стремится произвести на покупателя произведенных им вещей благоприятное эстетическое впечатление. В этом случае произведенный им продукт может рассматриваться и с эстетической точки зрения, но при этом его нельзя будет отнести к собственно художественным произведениям. Но если в изготовлении вещи на первый план выходит не ее функциональность, а ее эстетическая действенность, то труд мастера превращается в художественную деятельность (это может быть художественное литье, художественная вышивка, художественная резьба по дереву и т. д.). Ремесло превращается в художественный промысел, в ту или иную разновидность декоративно-прикладного искусства.
139
Лиотар Ж.-Ф. Возвышенное и авангард // Метафизические исследования. Вып. 4. Культура. — СПб.: Алетейя, 1997. С. 231.
140
Ж.-Ф. Лиотар настаивает на том, что «именно в эстетике возвышенного современное искусство (включая литературу) находит свою движущую силу, а логика авангардов — свои аксиомы» (Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн?// Ас! Ма^тет’93. — М., 1994. С. 316).
141
Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? С. 316.
142
Большой предмет воспринимается как «большой вне всякого сравнения» (=возвышенный) не потому, что «человек этого хочет», и, как уже было сказано, не по причине каких-то особых характеристик предмета (в природе нет безусловно больших предметов), а тогда, когда человеку открывает себя Другое, чье присутствие только и делает большой предмет большим вне всякого сравнения, а наше чувство — возвышенным чувством. Кант опускает событийность превращения «очень большого» в «большое вне всякого сравнения», так что по умолчанию получается, что встреча с морем, звездным небом, пустыней и т. д. как бы сама собой, автоматически порождает чувство возвышенного, которое, с одной стороны, оказывается гарантировано соотношением человеческих способностей, а с другой — внешним стимулом (вид волнующегося моря), запускающим механизм борьбы воображения и разума, которая ведет к тому, что и созерцаемый предмет, и сопровождающее его чувство обретают форму возвышенного чувства. Но на деле (и мы хорошо это знаем по собственному опыту) далеко не каждый раз человек, оказавшись на берегу моря или в горах, испытывает чувство возвышенного. Проблема состоит в том, что перед некоторыми предметами воображение всегда испытывает бессилие, но не всегда это бессилие сопровождается чувством возвышенного; отсюда следует, что или воображение не всегда стремится «увидеть даже то, что не может существовать», или оно всегда стремится к этому, но только поиск почему-то не всегда проявляет себя в форме возвышенного чувства. Стало быть, чувство возвышенного и сопряженное сним превращение большого предмета в возвышенный предмет созерцания нельзя связывать ни с работой человеческих способностей, ни с количественными характеристиками предмета восприятия. Рождение чувства возвышенного приходится связывать с откровением чего-то Другого по отношению к человеческим способностям и природным явлениям, и — шире — по отношению к сущему как таковому. Именно непроизвольная данность Другого делает ситуацию возвышенной, а индивидуальные, личностные качества человека, его настроение, количественные параметры предмета лишь способствуют тому, что Другое открывает ему себя в форме возвышенного расположения. Именно характерное для классической философии невнимание к событийности эстетического чувства позволило Канту свести «математически возвышенное» к игре человеческих способностей, но уже там, где речь у Канта заходит о «динамически возвышенном», он отказывается от укоренения возвышенного в игре способностей и связывает его с ситуацией потенциальной угрозы, исходящей от мощного и непредсказуемого явления природной стихии.
143
Здесь Лиотар не совсем точно излагает позицию Канта. У Канта неудовольствие и удовольствие лишь сопровождают то, что происходит в процессе созерцания эстетически значимых явлений. Удовольствие порождает у Канта не боль (не чувство неудовольствия), а то сверхчувственное «нечто», которое становится доступно для восприятия в ситуации созерцания величественных или мощных явлений природы.
144
Как особенное, прекрасное волнует человека, но это не противоречит тому, что волнующее прекрасного — умиротворенность, полнота и покой, царящие в событии расположения.
145
Лиотар Ж.-Ф. Возвышенное и авангард. С. 232—233.
146
Лиотар Ж.-Ф. Возвышенное и авангард. С. 233—234.
147
Там же. С. 235.
148
Лиотар Ж.-Ф. Возвышенное и авангард. С. 235.
149
Прежде всего следует напомнить, что эстетика Другого исходит из того, что всякое художественное произведение (и классическое, и неклассическое) «испытывает сочетания, позволяющие появиться событию».
150
Чувство возвышенного — весьма сложное и богатое оттенками чувство, в котором радостное волнение не исключает подчиненного ему волнения-перед-лицом-того-что-может-быть-опасным и в котором радостное волнение и волнение-от-угрожаемости накладываются на чувство абсолютной полноты и покоя, отрешенности от сущего. В ситуации, когда чувство покоя-и-полноты превозмогает волнение-от-близости-угрожающего, оно приобретает характер «торжествующего покоя», чувства полноты, побеждающей и превозмогающей неполноту и непокой сущего. Такого рода полнота и покой, как и радостное волнение, будут иными по окраске, чем волнение и покой, которыми отмечены наши встречи с прекрасным или, скажем, юным как эстетически утверждающими феноменами. В феномене возвышенного дух (Другое) в человеке обнаруживает свое превосходство над сущим как таковым и дает чувство покоя там, где человек чувствует свое ничтожество перед превосходящим его размерность и потому (потенциально) угрожающим его существованию сущим. Так что в трактовке возвышенного мы скорее соглашаемся с Кантом, чем с Бёрком и Лиотаром, полагая, что нельзя отказаться от существенного для понятия возвышенного момента превосхождения мира явлений, нельзя отказаться от возвышения, не потеряв при этом онтолого-эстетической специфики этого феномена. (Во всяком случае семантика слова «возвышенное» «во весь голос» заявляет о своем несогласии с его интерпретацией в духе Лиотара.) Усиление без возвышения — это прерогатива эстетики шока как художественно-эстетической метаморфозы расположений, относимых нами к эстетике отвержения (ужасное, страшное, безобразное, тоскливое).
151
Еще Э. Бёрк отмечал, что аффекты самосохранения (связанные с «идеями боли, болезни, смерти») являются «самыми сильными из всех аффектов». Аффекты общения, по его мнению, не производят на человека такого сильного впечатления (Бёрк Э. Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного. — М.: Искусство, 1979. С. 71). Поэтому и удовольствие от возвышенного, связанное с ужасом или страхом, есть самая сильная эмоция: «Все, что каким-либо образом устроено так, что возбуждает идеи неудовольствия и опасности, другими словами, все, что в какой-либо степени является ужасным или связано с предметами, внушающими ужас или подобие ужаса, является источником возвышенного; то есть вызывает самую сильную эмоцию, которую душа способна испытывать. Я говорю: самую сильную эмоцию, так как убежден, что идеи неудовольствия гораздо сильнее идей, возбуждаемых удовольствием» (Там же. С. 72).
152
Подробнее на эту тему см.: Лишаев С. А. Кант и «современность»: категория возвышенного в контексте постмодерна // Вестник Самарского государственного университета. — Самара, 1999. № 3. С. 25-29.
153
Волошин М. Дом поэта: Стихи. Главы из книги «Суриков». — Л., 1991. С. 96.
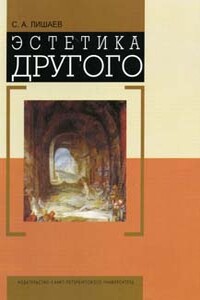
В монографии ставится ряд существенных для философской эстетики вопросов. Что мы чувствуем, когда чувствуем что-то особенное, Другое? Что происходит с нами в момент, когда мы как-то по-особому расположены? Что это за расположения? Если расположения отличны друг от друга, то чем? И, наконец, каковы онтологические предпосылки, делающие такие расположения возможными? Соглашаясь с тем, что нынешняя эстетика оторвалась от жизни, автор видит выход в создании эстетики как ветви онтологии, как аналитики чувственных данностей, субъективные и объективные моменты которых не изначальны, а обнаруживаются в стадии рефлексии над эстетической ситуацией.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В своем исследовании автор доказывает, что моральная доктрина Спинозы, изложенная им в его главном сочинении «Этика», представляет собой пример соединения общефилософского взгляда на мир с детальным анализом феноменов нравственной жизни человека. Реализованный в практической философии Спинозы синтез этики и метафизики предполагает, что определяющим и превалирующим в моральном дискурсе является учение о первичных основаниях бытия. Именно метафизика выстраивает ценностную иерархию универсума и определяет его основные мировоззренческие приоритеты; она же конструирует и телеологию моральной жизни.
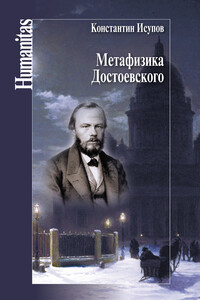
В книге трактуются вопросы метафизического мировоззрения Достоевского и его героев. На языке почвеннической концепции «непосредственного познания» автор книги идет по всем ярусам художественно-эстетических и созерцательно-умозрительных конструкций Достоевского: онтология и гносеология; теология, этика и философия человека; диалогическое общение и метафизика Другого; философия истории и литературная урбанистика; эстетика творчества и философия поступка. Особое место в книге занимает развертывание проблем: «воспитание Достоевским нового читателя»; «диалог столиц Отечества»; «жертвенная этика, оправдание, искупление и спасение человеков», «христология и эсхатология последнего исторического дня».
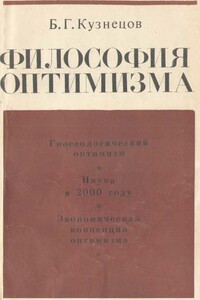
Книга посвящена философским проблемам, содержанию и эффекту современной неклассической науки и ее значению для оптимистического взгляда в будущее, для научных, научно-технических и технико-экономических прогнозов.
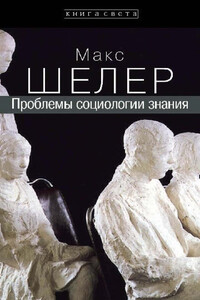
Основную часть тома составляют «Проблемы социологии знания» (1924–1926) – главная философско-социологическая работа «позднего» Макса Шелера, признанного основателя и классика немецкой «социологии знания». Отвергая проект социологии О. Конта, Шелер предпринимает героическую попытку начать социологию «с начала» – в противовес позитивизму как «специфической для Западной Европы идеологии позднего индустриализма». Основу учения Шелера образует его социально-философская доктрина о трех родах человеческого знания, ядром которой является философско-антропологическая концепция научного (позитивного) знания, определяющая особый статус и значимость его среди других видов знания, а также место и роль науки в культуре и современном обществе.Философско-историческое измерение «социологии знания» М.

«История западной философии» – самый известный, фундаментальный труд Б. Рассела.Впервые опубликованная в 1945 году, эта книга представляет собой всеобъемлющее исследование развития западноевропейской философской мысли – от возникновения греческой цивилизации до 20-х годов двадцатого столетия. Альберт Эйнштейн назвал ее «работой высшей педагогической ценности, стоящей над конфликтами групп и мнений».Классическая Эллада и Рим, католические «отцы церкви», великие схоласты, гуманисты Возрождения и гениальные философы Нового Времени – в монументальном труде Рассела находится место им всем, а последняя глава книги посвящена его собственной теории поэтического анализа.
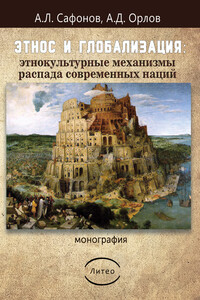
Монография посвящена одной из ключевых проблем глобализации – нарастающей этнокультурной фрагментации общества, идущей на фоне системного кризиса современных наций. Для объяснения этого явления предложена концепция этно– и нациогенеза, обосновывающая исторически длительное сосуществование этноса и нации, понимаемых как онтологически различные общности, в которых индивид участвует одновременно. Нация и этнос сосуществуют с момента возникновения ранних государств, отличаются механизмами социогенеза, динамикой развития и связаны с различными для нации и этноса сферами бытия.