Эссе: стилистический портрет - [3]
Это и есть эссе Монтеня. Отражение его характера и его мыслей. Глубоко интеллектуальный текст, прозвучавший более четырехсот лет назад, соприкоснулся и с нашей эпохой, давно устремившись в вечность. Потому что гуманитарное мышление не имеет ни начала, ни конца, а новые контексты спонтанны и необозримы.
Обратимся к эссе Монтеня «О книгах»[6], в котором, на наш взгляд, произошло счастливое соединение теории рождающегося жанра и практики: автор излагает теорию заимствований и дает свой опыт ее воплощения в тексте. Разгадать творческий замысел автора и выявить технологию его раскрытия в тексте помогает методика декодирования - восприятие текста с позиций читателя и с опорой на филологические знания законов текста и функционирования лингвистических средств.
Первое высказывание (сложное синтаксическое целое, прозаическая строфа.) в семантике текста выполняет функцию введения. Происходит знакомство читателя с автором, человеком, уверенным в себе и своем праве говорить то, что думает («Нет сомнения, что нередко мне случается говорить о вещах, которые гораздо лучше и правильнее излагались знатоками этих вопросов»). И сразу - заявка автора на оригинальность изложения: «Эти опыты - только проба моих природных способностей и ни в коем случае не испытание моих познаний; и тот, кто изобличит меня в невежестве, ничуть меня этим не обидит, так как в том, что я говорю, я не отвечаю даже перед собою, не то что перед другими, и какое-либо самодовольство мне чуждо».
Такое откровение, совершенно неожиданное и непривычное, вызывает невольный протест и желание поспорить с автором, который, признаваясь в невежестве и в отсутствии глубоких знаний, заявляет о каком-то «опыте», ему и нам пока не известном. Но чуть дальше, углубившись в текст, сталкиваемся с новым пассажем: оказывается, автор и не собирается потчевать нас очередными порциями знаний, а будет развивать лишь свои «фантазии», да еще и «о самом себе».
Второе высказывание выполнено в форме лирического отступления. Странное признание в своей ограниченности и некомпетентности: «не способен запомнить прочно», «не могу поручиться за достоверность моих познаний», «не следует обращать внимание на то, какие вопросы я излагаю здесь.» Читатель теряется в догадках: что за манера изложения материала, какой внешне самоуверенный, но на каждом шагу сомневающийся в себе автор? К чему ведут его обещания говорить о своих фантазиях, кому они предназначены и вызывают ли интерес затронутые им вопросы? Словно сам вдруг задумавшись об этом, автор приоткрывает дверь в свою творческую лабораторию.
В следующих высказываниях (третьем, четвертом, пятом) изложена теория заимствований. Все четко, логично. Абзацы (единицы авторского членения текста) совпадают с высказываниями (компонентами композиционно-речевого членения текста). Это усиливает впечатление выношенности, продуманности каждого положения.
Итак, текст.
«Я заимствую у других». Что? «То, что повышает ценность моего изложения».
По какому принципу? «Я заимствую у других то, что не умею выразить столь же хорошо либо по недостаточной выразительности моего языка, либо по слабости моего ума».
Вряд ли сегодня кто-то из пишущих и заимствующих готов признаться в «слабости ума»! Да и у Монтеня это, похоже, игра ума: а почему я обращаюсь к другим авторам? Но в подтексте скрыта выношенная мысль: опыт становится весомым, когда обрастает другими экспериментами, интерпретациями, пробами. Здесь и заложен, как мне кажется, семантический код заимствований. Дело, в конце концов, не в том, сколько их, этих заимствований («Я не веду счета моим заимствованиям.»), а в том, как чужое слово входит в новый контекст. Происходит «взвешивание» - условно назовем этот метод отбора заимствований «семантическими весами» - своих и чужих мыслей, форм выражения. Монтень, не мудрствуя лукаво, дает простую формулу: «отбираю и взвешиваю их» (заимствования. - Л.К.). Но не говорит, как?
А у кого заимствует? «Они все, за очень небольшими исключениями, принадлежат столь выдающимся и древним авторам, что сами говорят за себя». Профессиональное обращение к опыту древних культур, выбор незаурядных авторов - это ясно. Но обратим внимание на другую сторону процесса адаптации. Теоретически отрицая необходимость глубоких знаний, автор назначает индивидуальное начало, собственный опыт и фантазию главными аргументами новой науки самопознания. Но Монтень выдает себя с головой: он - широко образованный человек, владеющий глубокими знаниями. Кому «выдающиеся и древние авторы» могут быть настолько известны, что «сами говорят за себя», да еще и вписываются в новые контексты так корректно, как у Монтеня?!
А как приготовить гармоничную смесь интеллектуальный знаний, впечатлений, опытов, мыслей, которая не превратилась бы в «свалку идей»?! Вот как это делает Монтень: «Я иногда намеренно не называю источник тех соображений и доводов, которые я переношу в мое изложение и смешиваю с моими мыслями, так как хочу умерить пылкость поспешных суждений.» Все желания направлены на смягчение поспешных суждений о новых книгах, на защиту тех авторов, которых он сам ценит и уважает. Заимствуя их спорные мысли и суждения, Монтень подставляет свое имя под огонь критики: «Я хочу, чтобы они в моем лице поднимали на смех Плутарха или обрушивались на Сенеку».
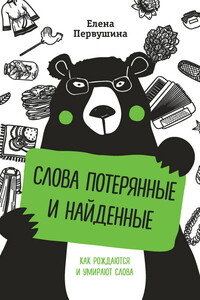
В новой книге известного писателя Елены Первушиной на конкретных примерах показано, как развивался наш язык на протяжении XVIII, XIX и XX веков и какие изменения происходят в нем прямо сейчас. Являются ли эти изменения критическими? Приведут ли они к гибели русского языка? Автор попытается ответить на эти вопросы или по крайней мере дать читателям материал для размышлений, чтобы каждый смог найти собственный ответ.
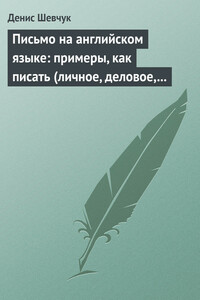
Как писать письмо на английском языке? Пособие представляет собой собрание образцов писем на английском языке, затрагивающих самые разнообразные стороны повседневной жизни. Это дружеские и деловые письма, письма – приглашения в гости и письма-благодарности, письма-извинения и письма-просьбы. Книга знакомит с этикетом написания письма на английском языке, некоторыми правилами английской пунктуации и орфографии, а также содержит справочные материалы, необходимые при написании писем. Пособие рассчитано на широкий круг лиц, владеющих английским языком в той или иной степени и стремящихся поддерживать письменные контакты с представителями англоязычных стран.
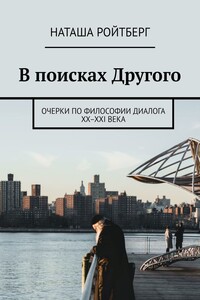
Мир вокруг нас не что иное, как постоянное перетекание и взаимодействие «своего» и «иного», «себя» и «не-себя», «самости» и «чуждости». Эта книга — о познании себя через другого, через опыт и призму инаковости, о поиске Другого: иного во мне самом, в культуре, в тексте. Другой всегда дан, и он же всегда находится в модусе ускользания. Пока мы ищем Другого, мы не перестаем задаваться вопросами и отвечать, мы все еще открыты для других и мира вокруг нас, мы все еще готовы принять ответственность.
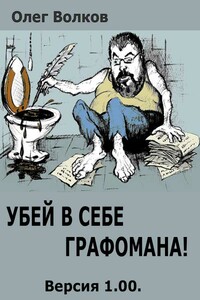
В этот сборник вошли статьи по литературному творчеству писателя Волкова Олега, которые были опубликованы им в личном блоге «Творчество как профессия» в популярной социальной сети «Живой журнал». В своих статьях Волков Олег затрагивает вопросы, которые либо плохо освещены в статьях и пособиях признанных писателей, либо не затронуты ими вообще. Например типы писателей, типичные недостатки графоманов, самоорганизация и прочее. Так же даны рекомендации по книгам и пособия по литературному творчеству, которые автор счёл наиболее полезными для начинающих писателей. Первая книга дилогии.
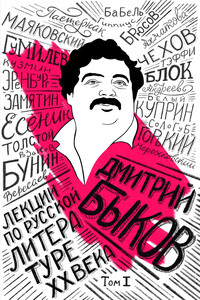
Эта книга – первая часть четырёхтомника, посвящённого русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить.В первый том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Чехов, Горький, Маяковский, Есенин, Платонов, Набоков и другие.Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга.Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».
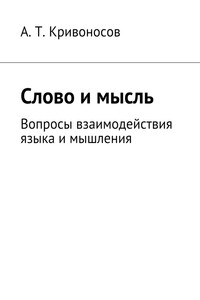
Это научное исследование посвящено не только критическому анализу и осмыслению давно ставшей традиционной и широко дискутируемой теории «взаимоотношения языка и мышления», но и всех основных, связанных с нею, теоретических проблем языкознания.