Эссе - [31]
Эти публикации красноречиво свидетельствовали, а вы ведь знаете, насколько сильно влияет расположение напечатанного материала и шрифт, для него выбранный, на то, чтобы до читателя сразу дошло: да, произошло событие, вполне заслуживающее упоминания, однако более нам нечего к этому добавить! Все детали, связанные с этим событием, упоминались в разделе культуры, с достоинством справившемся с возложенной на него миссией. Но вы вполне можете себе представить, насколько все было бы иначе - будь случай для прессы более подходящий! Подобное событие стало бы поводом для объявления национального траура, и газеты постарались бы показать всеми миру, как мы умеем скорбить! Столпы государства склонились бы в поклоне, отдавая дань памяти великому покойнику, заполоскались бы на ветру эпохи газетные передовицы, загрохотал бы салют некрологов, и все мы впали бы в безутешное состояние, хотя не всем участникам было бы ясно, по какой причине. Одним словом, это был бы прекрасный повод.
Смерть Рильке не была прекрасным поводом. Когда он умер, он не доставил нации удовольствия от торжественных похорон. Позвольте мне связать со случившимся некоторые собственные размышления.
Когда я осознал, насколько невысоко оценили утрату Рильке в калькуляции текущих общественных событий, - вряд ли она перевесила по своему значению премьеру нового фильма, - то, и я открыто в этом признаюсь, первым, что пришло мне в голову в ответ на вопрос, почему мы все здесь сегодня собрались, было следующее:
потому что мы хотим воздать дань уважения величайшему лирическому поэту, какого Германия имела со времен средневековья!
Произнести что-либо подобное, на мой взгляд, вполне допустимо и, однако же, в равной мере непозволительно.
Мне следует пояснить свое высказывание. Оно ни в коей мере не уменьшит величия Рильке, не опутает его витиеватыми формулировками и не подчинит компромиссу. Оно всего-навсего послужит уточнению понятия "великий поэт", которое в наше время стало расплывчатым. Подобное уточнение позволит нам не упражняться в ложном пиетете и не возводить образ Рильке на фундаменте, не имеющем надежной опоры.
Обычай нового времени, в соответствии с которым мы, немцы, обязаны иметь самого великого поэта в мире - своего рода долговязого малого от литературы предстает дурным недомыслием, в немалой степени виновным в том, что значение Рильке осталось нераспознанным. Бог знает, откуда от взялся, этот обычай! Он может в одинаковой степени быть связанным как с культом поклонения Гете, так и с нашими военными парадами, как с побивающим всех конкурентов непревзойденным ароматом сигарет сорта X, так и с рейтингом теннисистов. Ведь совершенно очевидно, что понятие творческого и духовного величия не определить ни в сантиметрах, ни в порядковых номерах. (Невозможно это сделать и по "объему" самого произведения или по широте "охвата" рассматриваемых им явлений, так сказать, по размеру писательской перчатки, хотя у нас и считают, что пишущий много преодолевает большие трудности, чем пишущий мало!) То, что понятие творческого величия не призвано служить средством принижения конкурентов, в удивительно благородной манере продемонстрировал сам Рильке, постоянно и самоотверженно поддерживавший своих молодых собратьев по перу.
Задумайтесь на секунду о том, что способные легко затеряться на книжной полке томики Гельдерлина и Новалиса были созданы в ту же пору, что и занимающее целый книжный шкаф собрание произведений Гете, что одновременно с монументальными глыбами из драматургической каменоломни Геббеля возникали и фрагментарные драмы Бюхнера. Не думаю, чтобы вы считали, что одно творение может заменить другое; художественные произведения почти полностью не подпадают под понятия "больше", "меньше", "более великий", "более глубокий", "более прекрасный", короче говоря, не подпадают под классификацию любого сорта. Именно в этом и заключается смысл поэзии, смысл того, что в патетическую эпоху называли "Парнасом", а в эпоху, влюбленную в человеческое достоинство и свободу, именовали "республикой духа". Вершины поэзии - не горные цепи, по которым можно карабкаться все выше и выше. Они составляют некий круг, внутри которого существуют лишь единичное, незаменимое, одинаково-неодинаковое, существуют благородная анархия и орденское братство. Чем строже определенная эпоха к тому, что она вообще называет высокой литературой, тем менее различий допустит она за пределами этого круга. Наше же время слишком терпимо в том вопросе, который касается литературной оценки: чтобы слыть писателем самому, при некоторых обстоятельствах бывает достаточно, что твой папа - писатель. С другой стороны, данному обстоятельству соответствует и то, что наше время до абсурда привязано к понятию литературной "звезды", чемпиона от поэзии, рысака-фаворита из издательской конюшни, - хотя писатель, будучи отнесен к наилегчайшей весовой категории, и не может рассчитывать на ту славу, которая выпадает на долю боксера-супертяжеловеса!
Райнер Мария Рильке плохо вписывался в эпоху. Этот великий лирический поэт не сделал ничего, кроме одного-единственного: он впервые придал немецкой поэзии абсолютное совершенство; он не был вершиной нашего времени, он был одним из тех холмов, по которым судьба духовной культуры шагает поверх времен... Он принадлежит к глубинным сплетениям немецкой литературы, а не к завитушкам повседневности.
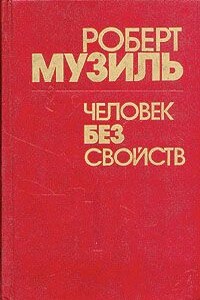
Роман «Человек без свойств» — главное произведение выдающегося австрийского писателя XX в. Роберта Музиля (1880–1942). Взяв в качестве материала Австро-Венгрию накануне первой мировой, Музиль создал яркую картину кризиса европейского буржуазного общества.
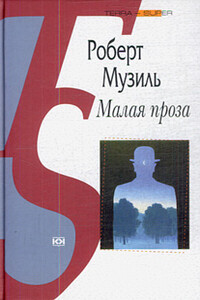
Роберт Музиль - австрийский писатель, драматург, театральный критик. Тонкая психологическая проза, неповторимый стиль, специфическая атмосфера - все это читатель найдет на страницах произведений Роберта Музиля. В издание вошел цикл новелл "Три женщины", автобиографический роман "Душевные смуты воспитанник Терлеса" и "Наброски завещаний".

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
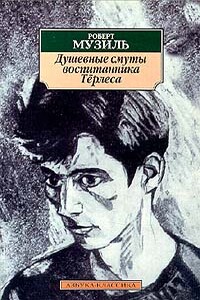
Роберт Музиль (1880–1942), один из крупнейших австрийских писателей ХХ века, известен главным образом романом «Человек без свойств», который стал делом его жизни. Однако уже первое его произведение — роман о Тёрлесе (1906) — представляет собой явление незаурядное.«Душевные смуты воспитанника Тёрлеса» — рассказ о подростке, воспитаннике закрытого учебного заведения. Так называемые «школьные романы» были очень популярны в начале прошлого века, однако Тёрлес резко выделяется на их фоне…В романе разворачивается картина ужасающего дефицита человечности: разрыв между друзьями произошел «из-за глупости, из-за религии».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
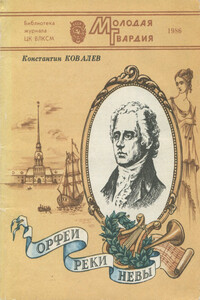
Константин КОВАЛЕВ родился в 1955 году в Москве. Окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина. Работал корреспондентом еженедельника «Литературная Россия», редактором — составителем «Альманаха библиофила». Автор ряда критических статей, переводов, очерков и публикаций по истории Москвы, древнерусских городов, о книжной и музыкальной культуре. Член Союза журналистов СССР. «Орфеи реки Невы» — первая книга молодого писателя.
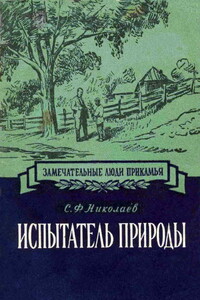
Брошюра посвящена жизни Павла Васильевича Сюзева — русского и советского ботаника-флориста, краеведа и географа.
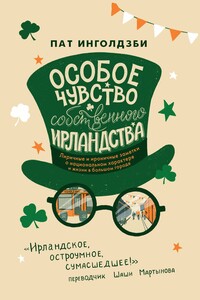
«Особое чувство собственного ирландства» — сборник лиричных и остроумных эссе о Дублине и горожанах вообще, национальном ирландском характере и человеческих нравах в принципе, о споре традиций и нового. Его автор Пат Инголдзби — великий дублинский романтик XX века, поэт, драматург, а в прошлом — еще и звезда ирландского телевидения, любимец детей. Эта ироничная и пронизанная ностальгией книга доставит вам истинное удовольствие.

