Эссе - [30]
Из этого, видимо, проистекает азбучная истина, что у слова писателя именно "возвышенный" смысл, в котором оно утрачивает обыденность, а не азбучная истина становится новым, не соответствующим независимым от него. То же действительно и для других, в узком смысле формальных, выразительных средств литературы: сообщают нечто и они, только в их применении переворачивается пропорция между тем, что они передают по эстафете дальше, и тем, что остается привязанным к явлению, так сказать непреходяще. Этот процесс можно рассматривать и как приспособление духа к областям, для разума непредставимых так же, как непредставимо приспособление этих областей к разуму, и в этом торжественном или возвышенном употреблении слово подобно копью, которое, чтобы оно достигло цели, должно быть брошено рукой, и которое, брошенное, уже не возвращается. Возникает, естественно, вопрос, что же является целью такого копьеметания, или, необразно выражаясь, какова задача у литературы. Формулировка позиции по этому вопросу уже не входит в замысел этих рассуждений, но из них следует, что они имеют в виду определенную область отношений между человеком и вещами, о которой свидетельствует именно литература и которой присущи ее средства. Причем такое "свидетельство" намерено было представлено не как субъективное выражение само по себе, а в его отношении к подразумеваемой предметности и объективности, или другими словами: опосредствуя выражение, литература опосредствует познание; познание это, правда, - вовсе не рациональное познание истины (даже если оно и неотделимо от нее), но и тот и другой вид познания - результат одинаково направленных процессов, ибо не существует рационального мира и вне его - иррационального, а есть только один мир, содержащий в себе оба.
Я хотел бы закончить не общими словами, а примером праформ литературы {Я обязан им проф. Э. М. фон Хорнбостелю. (Примеч. Музиля).}, примером весьма знаменательным. Из сравнения архаических гимнов и ритуалов с примитивными стало весьма очевидно, что с правремен такие основные особенности нашей лирики, как манера делить стихотворение на строфы и строчки, как симметрическое построение - параллелизация в том виде, в каком она и поныне выражается в рефрене и рифме, - как употребление повтора и даже плеоназма в качестве возбуждающего средства, как вкрапление бессмысленных (то есть таинственных, волшебных) слов, слогов и гласных рядов и, наконец, как свойство частного, предложения и части предложения, имеют значение не в себе и для себя, а лишь благодаря своему месту в целом стихотворении. (Зеркально отразилось даже щекотливое значение оригинальности, ибо архаические песнопения и танцы принадлежали зачастую отдельному человеку или общности, оберегались как тайна и дорого продавались!) Эти древние танцевальные песнопения были, однако, руководствами для поддержания хода природных событий и воздействия на богов, то есть они говорили о том, что следовало сделать для этой цели, а форма их в точной последовательности определяла то, как это следовало сделать, она задавалась протеканием события, которое было их содержанием; как известно, погрешностей в форме примитивные народы и поныне боязливо избегают из-за возможных дурных последствий. Этот пример вместе с его кратко воспроизведенным объяснением показывает, что научные исследования первоначального состояния искусства приводят к результатам совершенно родственным тем, которые независимо получены из рассмотрения нынешнего состояния искусства, но польза сравнения в том, что оно наглядно, нагляднее, чем литературный анализ, показывает сущностную связь между формой и содержанием, при которой все "как" обозначают одно "что". Процессом, направленным на "изготовление", "навораживание образца", а не на перепев жизни или взглядов на нее, куда лучше выражаемых без помощи этого процесса, является литература еще и поныне. Но в то время как из первоначального всеобщего "заклинания дождя" с течением тысячелетий сторона "что" развилась до науки и техники и давно произвела свое собственное "как-это-следует-делать", из стороны "как", хотя и изменившей свой смысл и удалившейся от исходной магии, нового четкого "что" не возникло. То, что следует делать литературе, есть все еще более или менее древнее "как-она-должна-была-это-делать"; и даже если в частном это "как", возможно, и будет связано со всевозможными изменениями целей, в задачу литературного искусства по-прежнему входят лишь поиски современной формы утраченного со времен Орфея убеждения, что искусство волшебным образом влияет на мир.
Сентябрь 1931
РЕЧЬ О РИЛЬКЕ
Перевод А. Белобратов.
Когда известие о смерти великого поэта Райнера Марии Рильке достигло Германии, и в дни, последовавшие за этим, мы напряженно следили за газетными публикациями, чтобы увидеть, как эта скорбная весть воспринимается историей немецкой литературы: не будем обманывать себя! - ведь приговор о величии выносится сегодня в этой первой инстанции, поскольку для литературы теперь практически не существует инстанции более авторитетной, - нам нетрудно было убедиться, насколько отклики прессы соответствуют тому, что я для краткости назову почетными государственными похоронами второго разряда.
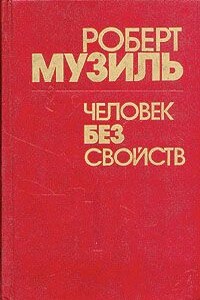
Роман «Человек без свойств» — главное произведение выдающегося австрийского писателя XX в. Роберта Музиля (1880–1942). Взяв в качестве материала Австро-Венгрию накануне первой мировой, Музиль создал яркую картину кризиса европейского буржуазного общества.
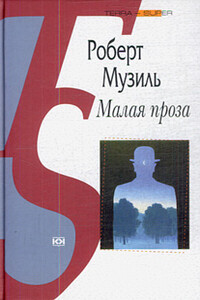
Роберт Музиль - австрийский писатель, драматург, театральный критик. Тонкая психологическая проза, неповторимый стиль, специфическая атмосфера - все это читатель найдет на страницах произведений Роберта Музиля. В издание вошел цикл новелл "Три женщины", автобиографический роман "Душевные смуты воспитанник Терлеса" и "Наброски завещаний".

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
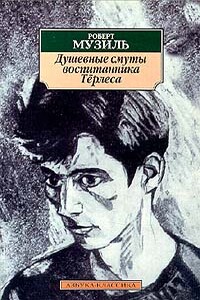
Роберт Музиль (1880–1942), один из крупнейших австрийских писателей ХХ века, известен главным образом романом «Человек без свойств», который стал делом его жизни. Однако уже первое его произведение — роман о Тёрлесе (1906) — представляет собой явление незаурядное.«Душевные смуты воспитанника Тёрлеса» — рассказ о подростке, воспитаннике закрытого учебного заведения. Так называемые «школьные романы» были очень популярны в начале прошлого века, однако Тёрлес резко выделяется на их фоне…В романе разворачивается картина ужасающего дефицита человечности: разрыв между друзьями произошел «из-за глупости, из-за религии».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
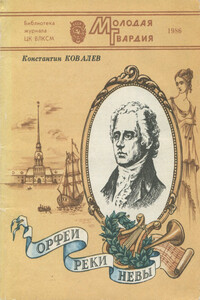
Константин КОВАЛЕВ родился в 1955 году в Москве. Окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина. Работал корреспондентом еженедельника «Литературная Россия», редактором — составителем «Альманаха библиофила». Автор ряда критических статей, переводов, очерков и публикаций по истории Москвы, древнерусских городов, о книжной и музыкальной культуре. Член Союза журналистов СССР. «Орфеи реки Невы» — первая книга молодого писателя.
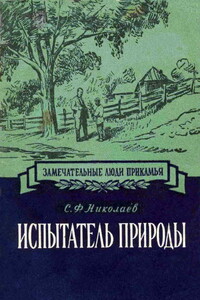
Брошюра посвящена жизни Павла Васильевича Сюзева — русского и советского ботаника-флориста, краеведа и географа.
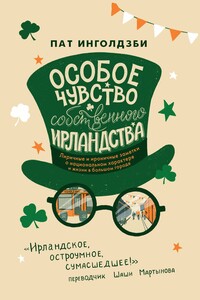
«Особое чувство собственного ирландства» — сборник лиричных и остроумных эссе о Дублине и горожанах вообще, национальном ирландском характере и человеческих нравах в принципе, о споре традиций и нового. Его автор Пат Инголдзби — великий дублинский романтик XX века, поэт, драматург, а в прошлом — еще и звезда ирландского телевидения, любимец детей. Эта ироничная и пронизанная ностальгией книга доставит вам истинное удовольствие.

