Эссе и 'романы' - [8]
Директор, я и впрямь прикончил братца, Нерон - мамулю, а Калигула не помнит даже, скольких и кого... Поймите, нам бы не хотелось... право как-никак придумали у нас... Что-что, домашние аресты? Послушайте, оставьте эти штучки, лучше будем временами посылать друг другу весточки. Как там погода? А детишки? В школе-то латынь еще проходят?
x x x
Временами тонкую и изворотливую душу рецензента, критика, мыслителя терзает, интригует, провоцирует вопрос: то, что выходит из-под моего пера, я пишу или же пишем мы? В Италии бытует застарелая традиция:
размышляя, представляться неким "мы". Есть что-то странное в таком пристрастии ко множественной форме - собирательной, "торжественной", метафизической или просто-напросто трусливой? "Мы" может относиться к папе римскому, к королю и императору, к аудитории, которую заполнил Дух Святой, к ретивым квакерам, группе жителей Ломбард(tm) - участников любой кампании, к дикарям, которые становятся согражданами, позволяя изловить свою свободу в сеть общественного договора; но в равной мере к воплям люмпен-пролетариата, нечленораздельным стонам побежденных, наконец, к трусливому благоразумию критиков.
Прекрасно помню день, когда я, неопытный, незрелый рецензент, задался вопросом: по какой такой причине всякий раз, когда я должен обнародовать свои соображения по поводу кого угодно, вместо "я" пишу я "мы"? Хоть и склонен я к завышенной самооценке, внушить себе, что я на самом деле - "мы", я так и не сумел: не изрекал я непреложных истин, мне удалось не стать пророком, отказался я от многообещающей, однако же обременительной карьеры вождя народов, и в целом воспротивился истолкованию сокровенных вожделений страждущего человечества; я потерпел провал как "мы" великолепия; как "мы" блестящих достижений срезался на самых жалких тестах на определение склонностей; меня не приняли бы даже в запасные боги, даже в серафимы-юниоры.
Единственное мыслимое объяснение заключалось в том, что это "мы", так завораживавшее меня, было просто-напросто местоимением трусости. Есть местоимения почтения, преданности, раболепства. Употребляемое мною "мы" позволило мне осуществить остроумную, лукавую, изысканную даже операцию: в самом деле, в этом случае "мы" означало не увеличение, а, напротив, растворение; "я" разжижалось, разбавлялось, испарялось. В моем воображении продуманно трусливом - "мы" являлось чем-то более обширным и в то же время разреженным по сравнению с "я"; было легче поразить его, но кровь при этом из него не шла. Я не был паладином, который, будучи пронзен, украсил бы свою агонию мелодичной жалобой по поводу ухода в мир иной; я был хором, коллективом, как в античной драме, навлекающим беду, но в силу многочисленности огражденным от насильственной кончины, неуязвимым даже для оружия с оптическим прицелом, короче, существом ничтожным, вечным, безымянным.
Вот правда, хоть и горькая: являясь членом профсоюза "мы", я уклонялся от ответственности, что лежит на всяком, у кого есть имя и фамилия. Кто сказал такие-то слова? Поди узнай, был один тут, да, само собой, один из нас, однако же не я, другой, совсем другой, похожий на меня лишь тем, что тоже не имеет ни фамилии, ни имени. Сегодня все осталось, как и прежде: я хоть и пишу теперь не "мы", а "я", но только потому, что знаю: во лбу я столь немногих пядей, что промахнется даже тот, кто выстрелит в меня из пистолета Дока Холлидея.
Из книги "ЦЕНТУРИЯ: СТО КРОШЕЧНЫХ РОМАНОВ"
В настоящей книжице на небольшом пространстве уместилась занимательная и богатая библиотека; действительно, она содержит сотню нескончаемых романов, преобразованных, однако, так, что торопливому читатели покажется, будто каждый состоит лишь из немногих безыскусных строк. Тем самым эта книжка претендует на то, чтобы считаться чудом некой современной научной дисциплины, родственной риторике - недавнего изобретения местных университетов. Короче говоря, книжонка бесконечна; знакомясь с ней, читателю придется использовать уже известные ему приемы чтения и, может быть, освоить новые: приобщиться к световым эффектам, каковые делают возможным чтение меж строк, под строчками, между двумя страницами листа - где пребывают главы изысканно скабрезные, эпизоды, коим свойственны благородная жестокость и исполненный достоинства эксгибиционизм, помещенные туда из стыдливой жалости к малолетним и седоголовым. По сути дела, того, что обнаружит в этом томике внимательный читатель, достало бы на целую читательскую жизнь: там есть и обстоятельные описания грузинского жилища, где проводили свое отрочество сестры, в будущем соперницы,- сперва в неведении, а потом - в смятении; и подробно обсуждаемые в диалогах экивоки, связанные с плотью, сексом и страстями, и достопамятные превращения многострадальных душ, и мужественные прощания, и верность дамочек, инфляции, народные волнения, промельки героев с мягкой и пугающей улыбкой, погони, бегства, а за одной из гласных букв (не скажу какой), глядя искоса, можно различить и "круглый стол" по правам человека.
Ежели мне позволительно давать советы, лучший способ - правда, дорогой - читать сию книженцию, по-моему, таков: арендовать на время небоскреб, этажей в котором столько, сколько в тексте строк; посадить на каждом этаже читателя, дать в руки ему книгу и определить одну строку; по сигналу Основной Читатель начинает низвергаться с верха здания, и в момент, когда он пролетает мимо очередного этажа, сидящий у окна читатель проговаривает громко и отчетливо свою строку. Этажей должно быть непременно ровно столько, сколько строк, и не стоит путать первый с цокольным, чтобы не возникло перед взрывом неловкой паузы. Данный томик также хорошо читать в какой-нибудь хибаре, затерянной в космическом пространстве, когда снаружи тьма и лучше, если абсолютный нуль.

«Особое чувство собственного ирландства» — сборник лиричных и остроумных эссе о Дублине и горожанах вообще, национальном ирландском характере и человеческих нравах в принципе, о споре традиций и нового. Его автор Пат Инголдзби — великий дублинский романтик XX века, поэт, драматург, а в прошлом — еще и звезда ирландского телевидения, любимец детей. Эта ироничная и пронизанная ностальгией книга доставит вам истинное удовольствие.
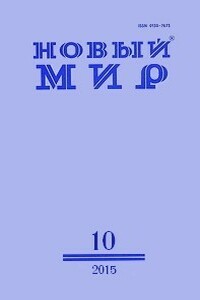
Одна из сельчанок, прочитав рассказ о войне, решила поделиться с автором своими воспоминаниями о военном и послевоенном житье на донском хуторе.



