Если честно - [13]
За следующей игрой в шахматы с отцом я похвастался ему этим наблюдением. Папа рассмеялся и сказал:
– Это называется «ирония».
Я безумно обрадовался, что для таких ситуаций уже придумали емкое слово – это означало, что кто-то другой тоже замечал такие вещи и смеялся над ними, что хоть все в детском саду и считали меня ненормальным, но где-то существовали и единомышленники.
– Обалдеть можно, – добавил папа, смеясь вместе со мной над миссис Смит, – В детском саду нет и не может быть никакого правила, обязывающего тебя играть в игры, которые тебе не нравятся, с теми, кто тебе не нравится. Это ее собственные выдумки. Ты что, по ее мнению, должен был специально играть в игры, которые не любишь?[20]
– Пускай остальные играют в игры поинтереснее! – воодушевленно добавил я.
Отец фыркнул, и я явственно почувствовал, что теперь его недовольство было нацелено уже на меня.
– Пускай остальные играют в то, во что хотят. Раз ты не обязан играть в их игры, с чего вдруг они обязаны играть в твои?
Я заплакал, но отец невозмутимо продолжил:
– Нельзя критиковать окружающих за то, что практикуешь сам. Это называется «лицемерие».
Я сразу понял, что это слово мне пригодится еще не раз.
Мама охотно рассказывала историю о еврее-Санте направо и налево. Как-то раз она рассказала ее Баббе и Зайде – мы тогда сидели за стеклянным кофейным столиком в их загородном доме, в котором будто бы навеки застыла атмосфера 1950-х. Зайде по ходу рассказа как обычно то засыпал, то просыпался. Даже когда он не спал, он вечно словно на что-то отвлекался и выглядел рассеянным. Баббе же, напротив, казалась мне похожей на одного из аллигаторов, которых я видел по телевизору – ее взгляд точно так же словно осуждал все и всех вокруг из-под неопределенного количества наслаивавшихся друг на друга полупрозрачных век. Когда мама закончила рассказывать, я вспомнил о своем новом любимом слове и спросил:
– Мам, а Грэмми лицемерная?
Мама ответила без малейшей запинки или раздумий:
– Ну, во всяком случае, Грэмми очень часто ведет себя лицемерно.
Баббе подалась вперед и произнесла со своим жестким, типично массачусетско-еврейским акцентом эпохи Великой депрессии:
– Не говори так! Майкл должен считать свою бабушку лучшей бабушкой на свете.
Мама невесело усмехнулась.
– Поверь, Майкл и сам бы очень быстро понял, что это не так, – ответила она.
Баббе скорчила максимально жгуче-осуждающую мину и повернулась ко мне, словно размышляя, не повесить ли каким-нибудь немыслимым образом вину за этот разговор на меня.
Мама тем временем продолжала:
– Если я отвечу «нет» на вопрос Майкла о том, лицемерна ли Грэмми, он просто перестанет доверять либо мне, либо себе самому. Ни то, ни другое мне как-то не особо по душе.
Она повернулась к папе, ища поддержки, но тот лишь безучастно глядел куда-то вниз сквозь стеклянную столешницу.
Первые несколько лет дошкольных занятий я провел преимущественно в слезах. В ответ на неизбежные обвинения в плаксивости я пересказывал обидчикам слова отца о том, что сдерживать слезы – это все равно что сдерживать смех, и пытался объяснить, что в слезах нет ничего дурного и что скрывать свои эмоции гораздо хуже, не говоря уже о том, чтобы смеяться над теми, кто этого не делает. Решительно никого из моих однокашников эти доводы не убеждали.
Как-то раз один мальчик, который активнее всех называл остальных плаксами, поцарапал коленку на площадке и сам упал на асфальт в слезах. Надо сказать, в моем понимании он и так уже являлся самым большим позором всей группы из-за такого мощного страха перед эмоциями, побуждавшего его смеяться над каждым, кто их проявлял. Однако в тот момент, лежа на асфальте и плача, он расписался еще и в собственном лицемерии. Впрочем, были и плюсы: по крайней мере, он на собственной шкуре понял, почему не стоит называть окружающих плаксами.
Однако совсем скоро он вновь стал обзывать остальных плаксами – у него даже коленка еще зажить не успела, и на ней все еще был бинт. Другой мой одногруппник споткнулся, упал и заплакал, а этот мальчик встал над ним и начал скандировать: «Плакса! Плакса!»
Я подошел к нему и прервал его крики, используя папин метод объяснения путем задавания вопросов.
– Ты тоже плакал, когда поцарапал коленку, – сказал я, – Почему ты и себя не назвал плаксой?
Он напрягся. Я узнал его позу – в нее обычно вставали сердитые и хмурые мужики, которые дрались по телевизору. Вид маленького мальчика, принявшего точно такую же позу, меня рассмешил.
– Я не плакса! – рявкнул он.
– Все видели, как ты плакал, – пожал плечами я.
– А вот и нет! – закричал он, – я не плакса! – он сорвался с места и побежал к зданию детского сада. – Я на тебя нажалуюсь! – крикнул он мне через плечо.
Я побежал следом, на ходу объясняя:
– Ты и ябедами других называешь! Нельзя называть других ябедами, если ябедничаешь сам!
Добежав до миссис Смит, он ухватился за ее ногу.
– Майкл назвал меня плаксой! – пожаловался он.
Так и не отцепив от своей ноги этого якобы не-плаксу, у которого глаза были на мокром месте, миссис Смит присела на корточки, чтобы меня отчитать.
– Это невежливо, – сказала она.

«Пойти в политику и вернуться» – мемуары Сергея Степашина, премьер-министра России в 1999 году. К этому моменту в его послужном списке были должности директора ФСБ, министра юстиции, министра внутренних дел. При этом он никогда не был классическим «силовиком». Пришел в ФСБ (в тот момент Агентство федеральной безопасности) из народных депутатов, побывав в должности председателя государственной комиссии по расследованию деятельности КГБ. Ушел с этого поста по собственному решению после гибели заложников в Будённовске.

Рассказ о жизни и делах молодежи Русского Зарубежья в Европе в годы Второй мировой войны, а также накануне войны и после нее: личные воспоминания, подкрепленные множеством документальных ссылок. Книга интересна историкам молодежных движений, особенно русского скаутизма-разведчества и Народно-Трудового Союза, историкам Русского Зарубежья, историкам Второй мировой войны, а также широкому кругу читателей, желающих узнать, чем жила русская молодежь по другую сторону фронта войны 1941-1945 гг. Издано при участии Posev-Frankfurt/Main.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Уникальное издание, основанное на достоверном материале, почерпнутом автором из писем, дневников, записных книжек Артура Конан Дойла, а также из подлинных газетных публикаций и архивных документов. Вы узнаете множество малоизвестных фактов о жизни и творчестве писателя, о блестящем расследовании им реальных уголовных дел, а также о его знаменитом персонаже Шерлоке Холмсе, которого Конан Дойл не раз порывался «убить».
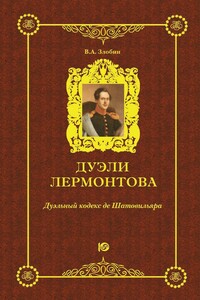
Настоящие материалы подготовлены в связи с 200-летней годовщиной рождения великого русского поэта М. Ю. Лермонтова, которая празднуется в 2014 году. Условно книгу можно разделить на две части: первая часть содержит описание дуэлей Лермонтова, а вторая – краткие пояснения к впервые издаваемому на русском языке Дуэльному кодексу де Шатовильяра.
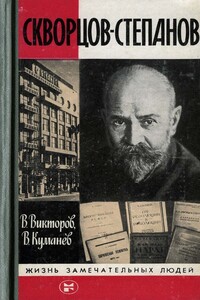
Книга рассказывает о жизненном пути И. И. Скворцова-Степанова — одного из видных деятелей партии, друга и соратника В. И. Ленина, члена ЦК партии, ответственного редактора газеты «Известия». И. И. Скворцов-Степанов был блестящим публицистом и видным ученым-марксистом, автором известных исторических, экономических и философских исследований, переводчиком многих произведений К. Маркса и Ф. Энгельса на русский язык (в том числе «Капитала»).