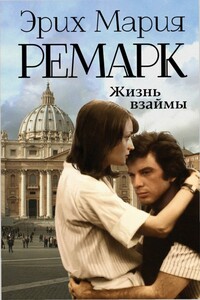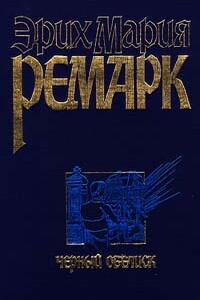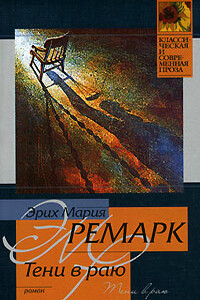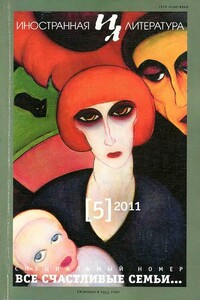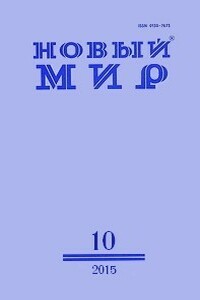С деревьев падает черная вата, или это газовые платки, один плотнее другого? Минутку, любимая, теперь дело принимает действительно серьезный оборот: нам предстоит сразиться с темнотой, этой скупой дворянкой, живущей в монастырском приюте для престарелых, которая хочет скрыть от нас мир и запереть его в ночи, словно в темном шкафу, чтобы мы не видели ничего, кроме ее черных нижних юбок. Фриц и Будда, фас, фас! Смотри, как наши фары, словно верные псы, вцепились сверкающими зубами в тряпки, что пытались скрыть от нас мир! Почему их так зовут? Не знаю. Живой Будда, представший передо мной в образе официанта Фрица в пивной «У голубого барана» в Юрге, нарек их так. Но они молодцы, они разрывают тьму в клочья, гляди, как пристыженно смотрит на нас шоссе в известковом неглиже и снова темнеет, когда мы проезжаем дальше, можно умереть со смеху. Вон удирает вприпрыжку девица-береза в шелковых чулках, а там причесывается ветла, и с тополями, кажется, тоже не все чисто, какой-то шепот и шелест, заткни уши, не слушай языческий бред.
Но вот уже и снова дома, косые, низкие, склон полон света, потом — четверть часа по этой проклятой булыжной мостовой, городские ворота, а теперь — тихонько, приглушив мотор, по улочкам. Здесь жизнь иная, здесь иначе дышится, шаги шире, глаза безмятежнее. Здесь говорят «добрый день» и «до свидания», но имеют в виду совсем другое; здесь слово цедят так же скупо, как золотые монеты, которые сначала вертят в руках и только потом с сожалением обменивают на товар. Но эти дома! Или нас заколдовали? Как они стоят, высокие шапки крыш надвинуты глубоко на глаза, посохи-герани и резные ставни — старые, прекрасные, удивительно умиротворяющие. Здесь чувствуешь себя таким защищенным. Завтра же утром купим домик, вот тот, где мелочная лавка, и останемся здесь навсегда; я стану официантом или хозяином трактира «У льва».
Только не говори, что здесь нет центрального отопления и ванной комнаты, я и сам это знаю, но ведь дело в настроении: все равно никто никогда не поступает так, как говорит. Но послушай, как плещется родник, а эта рыночная площадь, а эта луна! Давай окунем руки в воду, давай немного побудем сентиментальными. Я буду изображать странствующего бурша, который собирается в дальний путь, к мастеру в Данию, чтобы через год вернутся.
Если испить лунной ночью этой воды, станешь прекраснее всех женщин на свете, только не выпей весь родник, ведь должно быть полнолуние, а на ограде должна сидеть белая иволга. А теперь давай пройдемся через рыночную площадь, словно хозяин имения и его жена. Как стучат твои каблучки, как блестит мой парик, жизнь упорядочена и устроена, дети спят, ты немного склонна к полноте, а утром в девять — чрезвычайно важное собрание городских старейшин.
Но вот улочки исчезают за нашими спинами, мы возвращаемся из мечты, на горизонте матово мерцают огни города, из которого мы уехали, мы мчимся к нему молча, наш бог — счетчик пробега и часы, потому что, может быть, мы еще успеем послушать концерт или посмотреть последний акт в театре — мы, беспокойные мечтатели.
Он приходит издалека. Его еще окружает запах лесов и больших озер, а сбоку, на подножке, застряла оторвавшаяся ветка, видимо, где-то на крутом повороте он задел кустарник или заросли ивняка. Ветка болтает своими серебристо-серыми сережками, словно беспутный вагант, радостный и беззаботный, позади ревущего мотора. Ее обдувает горячее дыхание цилиндров, овевает запах работы и бензина, но она, немного кривоватая, немного дерзкая, уже с обеда пристроилась на этом месте и будет сопровождать омнибус в любой поездке — от сутолоки домов большого города до далеких загородных уголков, где так приятно провести выходные, — словно веселый ребенок бесконечно работающих родителей.
Омнибус ездил целый день; как большой корабль, бороздил он асфальтовые просторы, нагруженный шумным, болтливым грузом до самого верха. Вместе с сотнями своих желтых собратьев неустанно несет он службу; на перекрестках они иногда встречаются и даже разговаривают, а к полудню, когда уже становится тепло, они начинают постанывать и стучать чуть громче, потому что сухой воздух не особенно нравится моторам, но потом они все-таки разгоняются и катятся по длинной, широкой дороге из города, один за другим, с одинаковыми интервалами, навстречу соснам и букам, озерам и лесам.
В сумерках они превращаются в маленькие, немного сонные жужжащие островки. Голубовато-золотая пыль вечера припудривает их, окрашивая в кобальтовую синь и нежно-розовый цвет фламинго, косые лучи солнца превращают фары с падающим из них лучами света в сверкающие серебряные фонтаны, и добрые старые трудяги-омнибусы, пыхтя, пробираются по дорогам, словно сказочные тролли, Рюбецали и верные Экарты[10].
Когда наступает ночь, братьев-омнибусов становится меньше. Лишь изредка они встречают друг друга. Работа тоже меняется. Если днем омнибус едет до отказа нагруженный за город и возвращается опустошенный, стуча и радостно звеня, то теперь все наоборот: почти без груза он выезжает из города и, перегруженный, возвращается в него.