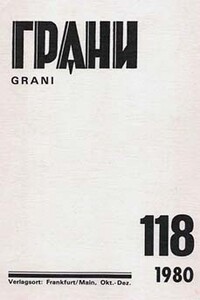Энтропия - [4]
Падаю: раз, падаю: два, не получается. В темноте никто не увидит.
Один раз в коридоре, говоря с заведующей учащимися (если произносить полностью, то обилие шипящих выдаст змеиную сущность этого человека, а если так, как все, то есть зауч, то заунывные звуки опишут ее заунывное тело оплывшей дугой), новый подступ: один раз в коридоре, говоря с завучем (мужской род слова откроет, что женского в этой зазнавшейся бабе осталось чуть, получился зазнавшийся дед), третий подступ: один раз в коридоре я взял и упал просто так, чтобы выразить степень отчаянья. Ты чего, говорит (че-го-го, этот гогот призван выразить длинную шею и шепелявость той, которую сложно назвать и невозможно описать) – ничего, это я так, оступился.
Паясничаешь, говорит, нет, говорю, просто так, оступился. Завуч – с мягким знаком на конце, слово женского рода по форме и среднего рода по сути, как сволочь, – покачала своей головой и сказала: семь троек, три двойки, пятерка по биологии, с такими оценками перевести не сможем, приведи родителей в школу. Не привел. Перевели. Это так, не по делу. Репетирую жест отчаянья: пистолет, оскопленный на случай непредвиденной дрожи в указательном пальце, приставляю то к горлу, то к носу. Надоедает, тогда опять прикасаюсь к предметам, как-то: узкогорлый кувшин с нелепой какой-то лепниной в боку, словно кишки выпирают из толстого брюха, затем – восковой, с заусенцами, шар, противный на ощупь, затем – чучело курицы со стеклянными гладкими глазками, шершавыми лапками и палкой, торчащей из брюха, чтоб ставить, затем – руку скелета с прекрасными тонкими пальцами, затем
– гипсовый череп со сросшимися челюстями, затем – широкий сосуд без глазури, с одним ущербленным бочком, с коротеньким клювом, должно быть, для молока, а может, для красоты. Голову скелета трогаю тоже, с опаской, известно, что нижняя челюсть держится, можно сказать, ни на чем. В этой студии, если подумать, одни черепа: взять этот горшок
– чем не череп, а если разбить, черепки. Восковые плоды: получаются из искусственных цветов. Искусственные цветы вырастают на кладбищах, там, где лежат черепа и зарыты керамические горшки с измельченными, опять-таки, черепами, костями и всякой прочей дрянью. Посмотреть в керамических горшках: нет ли. Что-то похожее: высохшая вода и канцелярские кнопки. И никто не узнает, что я здесь делаю. Правда, я здесь не делаю ничего, и это обидно. Что здесь можно сделать?
Звонок. Кто бы это? Опять звонок. Подходить или нет? Лучше не подходить, но вдруг понимаю, что это может быть Катерина, и если она, то начнет волноваться и позвонит куда, как ей кажется, надо.
Подхожу, беру.
– Как ты здесь, ничего – да, ничего, как ваша нога – ничего – вот и прекрасно, тут ничего, и там ничего, – позвони домой, чтобы не стали искать, а то ведь найдут, угу, позвоню.
Действительно, стоит туда позвонить. Набираю. Гудки. Гудки. Гудки – о, взяла:
– Ты где?
– Да вот у знакомых, нет, не скажу, у каких, не вернусь, вы меня уже оба. Нет, не у него, нет, не у него. Завтра приду за вещами и перееду к… – к сестре. И в самом деле. Как это я сразу. Нужно было к сестре. Сестра в общежитии мертвую душу купила и с нею живет. Скучно с мертвой душой, сестра, лучше живую. У меня живая душа, родная вдобавок. Нет, надоело – это я ей, к Оксане поеду. Школу брошу, у
Оксаны другую найду. И художественную брошу, и всех вас брошу к чертям. Кладу трубку.
Звонок. Кто бы это – знаю, опять Катерина. Катерина Геннадьевна, да, позвонил, я знаю, поеду к сестре. Сестра в общежитии мертвую душу снимает, нет, не родная, двоюродная сестра, и вот что, Катерина
Геннадьевна, я эту школу бросаю, бросаю совсем, так что вы не беспокойтесь, я завтра отсюда уйду.
Длинная такая сигаретная коробка и узкая: “Вирджиния слим”. В такой коробке жить прозрачным гражданам футуристического городка. Один подъезд, одна лестница, одна дверь, вторая дверь, надпись, вообразите себе, поздравляет с новым, тысяча девятьсот восьмидесятым. В пухлых снежинках. Вахтерские будки и комнаты всегда вызывали зависть, как будто бы им там так уж тепло и светло, и даже календарь. К кому? К Лазаревой. Лазарева, сто пятидесятая. Документ есть? Какой у меня может быть документ. Есть школьный проездной, больше ничего. Мнется и пропускает. До одиннадцати часов. Лифты бренчат и не едут. Электрический зайчик прыгает с пятнадцатого на четырнадцатый, с четырнадцатого на тринадцатый, двенадцатый залеплен жвачкой, потом на одиннадцатый, а потом опять на тринадцатый.
Обдумываю. Не делать резких движений. Сначала – переночевать. Потом
– на несколько дней. Вот, приехал. Сначала переночевать, потом на несколько дней, а потом попробуем дядю с его стороны и тетю с ее стороны.
Тук-тук, коридор, как мозговая косточка, о двух концах, вместо мозга
– мутноватый накуренный воздух, линолеум в язвочках от окурков, две никак не студентки корейского вида говорят на, должно быть, корейском. Сто пятьдесят: стучу, стучу два, стучу три, открывает – вам кого – раскосая девушка в джинсах и – Лазарева Оксана здесь живет – в свитере – ее сейчас нет – в шлепанцах и – а когда она будет – с косицей – не знаю. Хочется где-нибудь сесть, поэтому говорю: а я брат ее. Открывает пошире: у Оксаны нет братьев. Я, говорю, двоюродный брат. Ну если двоюродный, тогда ладно. Подожди, может, скоро придет. А если не придет? Рано или поздно придет.

Это «книга эксцессов». То есть чудес. Потому что эксцесс — это и есть чудо, только удивительным образом лишенное традиционной основы чудесного — Высшей воли. Ибо Бога, который не может быть засвидетельствован, естественно, не существует. (Впрочем, здесь тоже не все так просто, ибо автор, подобно Канту, по булгаковскому Воланду, отвергнув традиционные доказательства, выдвинул свое. Но мы с вами пока об этом ничего не знаем.) Итак, эксцесс — безосновное чудо — у которого и для которого нет оснований. Это не-вольное чудо, буквально.
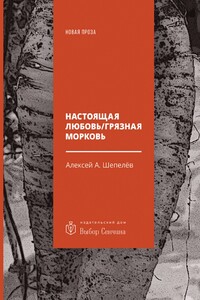
У Алексея А. Шепелёва репутация писателя-радикала, маргинала, автора шокирующих стихов и прозы. Отчасти она помогает автору – у него есть свой круг читателей и почитателей. Но в основном вредит: не открывая книг Шепелёва, многие отмахиваются: «Не люблю маргиналов». Смею утверждать, что репутация неверна. Он настоящий русский писатель той ветви, какую породил Гоголь, а продолжил Достоевский, Леонид Андреев, Булгаков, Мамлеев… Шепелёв этакий авангардист-реалист. Редкое, но очень ценное сочетание.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В свое время Максим Горький и Михаил Кольцов задумали книгу «День мира». Дата была выбрана произвольно. На призыв Горького и Кольцова откликнулись журналисты, писатели, общественные деятели и рядовые граждане со всех континентов. Одна только первая партия материалов, поступившая из Англии, весила 96 килограммов. В итоге коллективным разумом и талантом был создан «портрет планеты», документально запечатлевший один день жизни мира. С тех пор принято считать, что 27 сентября 1935 года – единственный день в истории человечества, про который известно абсолютно все (впрочем, впоследствии увидели свет два аналога – в 1960-м и 1986-м).Илья Бояшов решился в одиночку повторить этот немыслимый подвиг.

История о жизни, о Вере, о любви и немножко о Чуде. Если вы его ждёте, оно обязательно придёт! Вернее, прилетит - на волшебных радужных крыльях. Потому что бывает и такая работа - делать людей счастливыми. И ведь получается!:)Обложка Тани AnSa.Текст не полностью.
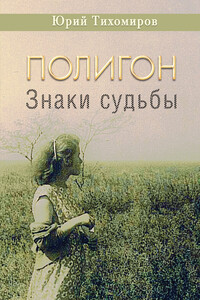
Автор книги – полковник Советской армии в отставке, танкист-испытатель, аналитик, начальник отдела Научно-исследовательского института военно-технической информации (ЦИВТИ). Часть рассказов основана на реальных событиях периода работы автора испытателем на танковом полигоне. Часть рассказов – просто семейные истории.