Экран как антропологический протез - [3]
Необходимость созерцать собственное сознание, в котором происходит эйдетический синтез видимостей, лежит в той же плоскости, что и epoche. Редукция пытается вывести за скобки так называемую природную, естественную направленность сознания на вещи, она пытается освободить человека от всего, что не связано непосредственно с его опытом переживания мира как видимости и еще в большей степени — сущности. Как пишет французский феноменолог Натали Депраз, «речь идет о том, чтобы высвободить, освободить иное качество, иную модальность субъективного опыта, которая остается по своей идентичности моей»>[10]. Речь идет именно об освобождении от всего чужого, от не моего, от социального, исторического, от предрассудков, от мира, который уже дан до моего столкновения с его видимостью.
Но что означает созерцание сущности? О какой сущности идет речь? Видный французский феноменолог Жан-Люк Марион считает, что речь идет о сущности феномена, о сущности той видимости, которую являет нам мир. Сущность явления заключается в том, что оно дается нам, манифестирует себя в созерцании. Целью редукции является выявление сущности этого явления как данности, как его самоманифестации. Задача редукции, по мнению Мариона, — «позволить появлению показать себя в видимости»>[11]. При этом Марион выражает скептицизм по поводу возможности достичь этого появления, данности с помощью редукции, так как появление, манифестирование всегда находятся под угрозой поглощения объектом или бытийственностью. Обойти этот тупик редукции, как он считает, может помочь живопись, «намеренно созданная, чтобы явить себя в видимости»>[12].
Конечно, и живопись может быть легко поглощена своей объектностью, своей материальностью, явленной в холсте, раме, красках и т.д. Может она поглотиться и референциальным объектом, тем, что репрезентировано, если живопись фигуративна. Но созерцание живописи трансцендирует материальность в чистом акте видения, так что в ней «можно узреть чистое явление самой себя, именно как живописи.»>[13]. Показательно, что Марион вынужден прибегать для достижения редукции к некоему протезу зрения, а именно к фиксации видения вне мозга и глаза на живописном холсте. Такой вынос зрения вне человека, в его искусственный продукт как будто делает редукцию еще более затрудненной, ведь видимость в живописи укоренена в ее материальности. Но эта материальность как будто облегчает отделение сущностного созерцания, манифестирования видимости от предметности, так как в живописи отделение материала от иллюзии укоренено в самой ее сущности. Именно в искусственном изображении нематериальность чистой феноменальности дается нам как данность.
Феноменология вынуждена в какой-то момент отказаться от чисто субъективного и искать аффекты не в сознании, но вне его. Делёз и Гваттари замечали: «Феноменология обнаруживает ощущение в перцептивных и аффективных "материальных априори", которые трансцендентны опытным восприятиям и переживаниям (желтый цвет у Ван Гога или врожденные ощущения Сезанна). Феноменология, как мы видели, должна становиться феноменологией искусства, потому что имманентность опыта трансцендентальному субъекту нуждается в выражении посредством трансцендентных функций, которые не только детерминируют сферу опыта в целом, но и непосредственно здесь и сейчас пересекают наш жизненный опыт и воплощаются в нем, образуя живые ощущения»>[14]. Делёз и Гваттари точно определяют существо феноменологического поворота, понуждающего мыслителей, стремящихся выйти за рамки психологии в область трансцендентального субъекта, мыслить аффекты именно как некие «материальные априори».
Эта искусственность, этот вынос зрения вне человека в полной мере согласуется с признанием Гуссерлем того факта, что epoche — в высшей степени искусственная и с трудом достижимая операция. Хайдеггер и Мерло-Понти>[15] вообще сомневались в возможности такой процедуры. В своей последней прижизненной книге «Кризис европейских наук» Гуссерль писал об epoche как о неком почти трансцендентном мистическом опыте: «Быть может, выяснится даже, что тотальная феноменологическая установка и соответствующее ей эпохе прежде всего по своему существу призваны произвести в личности полную перемену, которую можно было бы сравнить с религиозным обращением, но в которой помимо этого скрыто значение величайшей экзистенциальной перемены, которая в качестве задачи предстоит человечеству как таковому»>[16].
Этот радикальный разрыв с естественной установкой позволяет, по мнению Гуссерля, увидеть само сознание человека, а по выражению Мерло- Понти, «немотивированное возникновение мира» (le jaillissment immotive du monde)>[17], то есть именно появление видимости. Я тоже склонен считать, что человек ни при каких обстоятельствах не может «увидеть» своего собственного сознания, что редукция недостижима и относится к области, как, впрочем, указывал и сам Гуссерль, сверхчеловеческого. Между тем, ближайшим аналогом редукции мне представляется не столько живопись, сколько раньше — кинематограф, а сегодня — видеоарт. Экран является как раз тем технологическим протезом, который позволяет вынести образ сознания вне человека. Именно на экране постоянно происходит синтез видимостей, когда один аспект вещи синтезируется с другим, подобно тому, как описывал Гуссерль эйдетический синтез игральной кости.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В эту книгу вошли статьи, написанные на основе докладов, которые были представлены на конференции «„Революция, данная нам в ощущениях“: антропологические аспекты социальных и культурных трансформаций», организованной редакцией журнала «Новое литературное обозрение» и прошедшей в Москве 27–29 марта 2008 года. Участники сборника не представляют общего направления в науке и осуществляют свои исследования в рамках разных дисциплин — философии, истории культуры, литературоведения, искусствоведения, политической истории, политологии и др.
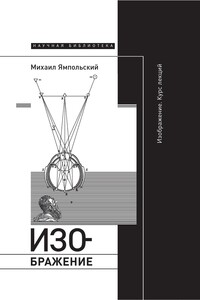
Книга Михаила Ямпольского — запись курса лекций, прочитанного в Нью-Йоркском университете, а затем в несколько сокращенном виде повторенного в Москве в «Манеже». Курс предлагает широкий взгляд на проблему изображения в природе и культуре, понимаемого как фундаментальный антропологический феномен. Исследуется роль зрения в эволюции жизни, а затем в становлении человеческой культуры. Рассматривается возникновение изобразительного пространства, дифференциация фона и фигуры, смысл линии (в том числе в лабиринтных изображениях), ставится вопрос о возникновении формы как стабилизирующей значение тотальности.
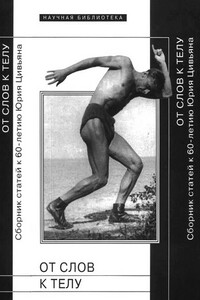
Сборник приурочен к 60-летию Юрия Гаврииловича Цивьяна, киноведа, профессора Чикагского университета, чьи работы уже оказали заметное влияние на ход развития российской литературоведческой мысли и впредь могут быть рекомендованы в списки обязательного чтения современного филолога.Поэтому и среди авторов сборника наряду с российскими и зарубежными историками кино и театра — видные литературоведы, исследования которых охватывают круг имен от Пушкина до Набокова, от Эдгара По до Вальтера Беньямина, от Гоголя до Твардовского.

Сборник включает в себя материалы III Приговских чтений, состоявшихся в 2012 году в Венеции и Москве по инициативе Фонда Д. А. Пригова и Лаборатории Д. А. Пригова РГГУ В этом смысле сборник логично продолжает издание «Неканонический классик», вышедшее в «Новом литературном обозрении» в 2010 году. В центре внимания авторов находится творчество Дмитрия Александровича Пригова как масштабный антропологический проект, рассматриваемый на пересечении разных культурных контекстов — философских исканий XX века, мирового концептуализма, феноменологии визуальности и телесности.

Ханна Фрай (р. 1984), английский математик, профессор Университетского колледжа Лондона, ведущая научных теле- и радиопередач, доступно и увлекательно рассказывает о принципах работы компьютерных алгоритмов и искусственного интеллекта, об их применении в разных сферах жизни, приводит яркие примеры их успехов и провалов. Автор показывает и возможности, и риски все большего распространения “умных” машин, ставит вопросы о человеческих способностях, ответственности и морали и приходит, казалось бы, к парадоксальному выводу: “Никогда еще человек не был так важен, как в эпоху алгоритмов”.
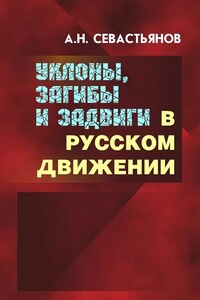
Перед Вами – сборник статей, посвящённых Русскому национальному движению – научное исследование, проведённое учёным, писателем, публицистом, социологом и политологом Александром Никитичем СЕВАСТЬЯНОВЫМ, выдвинувшимся за последние пятнадцать лет на роль главного выразителя и пропагандиста Русской национальной идеи. Для широкого круга читателей. НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ Рекомендовано для факультативного изучения студентам всех гуманитарных вузов Российской Федерации и стран СНГ.

В этой книге последовательно излагается история Китая с древнейших времен до наших дней. Автор рассказывает о правлении императорских династий, войнах, составлении летописей, возникновении иероглифов, общественном устройстве этой великой и загадочной страны. Книга предназначена для широкого круга читателей.

Синь-камень, Александрова гора и Плещеево озеро по меньшей мере со Средневековья окружены легендами и преданиями. Часть из них вполне объяснима. Славяне ещё с языческой поры по-особому воспринимали древнее население Восточной Европы. Легенды о «финских» колдунах до сих пор живы на Русском Севере. Культ камней вообще свойствен древней традиции населения Евразии, но, возможно, именно у финно-угорских народов он развился в полной мере, и именно у них наши славянские предки переняли особо трепетное отношение к приметным и необычным валунам.Как и почему почитали священные камни? Где сегодня в России их можно увидеть и какие с ними связаны поверья и легенды? Об этом и многом другом рассказывает очередная книга серии.
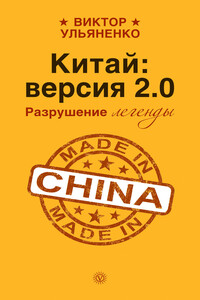
Китай все чаще упоминается в новостях, разговорах и анекдотах — интерес к стране растет с каждым днем. Какова же она, Поднебесная XXI века? Каковы особенности психологии и поведения ее жителей? Какими должны быть этика и тактика построения успешных взаимоотношений? Что делать, если вы в Китае или если китаец — ваш гость?Новая книга Виктора Ульяненко, специалиста по Китаю с более чем двадцатилетним стажем, продолжает и развивает тему Поднебесной, которой посвящены и предыдущие произведения автора («Китайская цивилизация как она есть» и «Шокирующий Китай»).
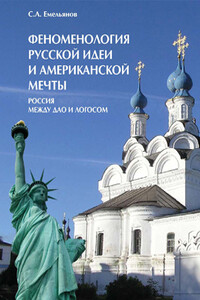
В работе исследуются теоретические и практические аспекты русской идеи и американской мечты как двух разновидностей социального идеала и социальной мифологии. Книга может быть интересна философам, экономистам, политологам и «тренерам успеха». Кроме того, она может вызвать определенный резонанс среди широкого круга российских читателей, которые в тяжелой борьбе за существование не потеряли способности размышлять о смысле большой Истории.