Экран как антропологический протез - [2]
Я намеренно сослался на Шеллинга, который для установления тождества между субъективностью и природой был вынужден сосредоточиться на искусстве как объективации этого тождества. Искусство, хотя и является продуктом человеческого творчества, решительно отличается от природных объектов именно своей искусственностью, знаковостью, формами «записи» в широком смысле. Искусство выходит за пределы природного и сближается с технологическим. Это сближение гетерологично по отношению к природе и укорененному в ней человеку. Но без этого искусственного образования человек не может отрефлексировать сущность собственной субъективности, которая, будучи чистым динамизмом, не объективируется для рефлексивного сознания. Иными словами, «технологическое и искусственное» являются необходимым протезом сознания для постижения фундаментально антиобъектного, природного в человеке. Именно тут противоположность экологического и технологического постгуманизмов перестает быть абсолютной.
Сегодня особенно отчетливо проступает зависимость «гуманистического» анализа субъективности от технологических форм записи, от тех форм искусства, которые максимально зависимы от сложных технологий>[6]. Поясню это утверждение на примере Гуссерля. Как известно, Гуссерль считал, что всякий обладающий устойчивой идентичностью объект в нашем сознании является результатом эйдетического синтеза. В «Картезианских медитациях» он пишет, например, о том, как в нашей рефлексии возникает объект «игральная кость»: «...эта кость непрерывно дана в качестве предметного единства в некотором полиморфном изменчивом многообразии определенным образом связанных способов явления. Последние в процессе их протекания не являются бессвязной последовательностью переживаний. Напротив, они протекают в единстве синтеза, в соответствии с которым одно и то же осознается в них как являющееся. Игральная кость, одна и та же, являет себя то в ближней перспективе, то в дальней, в меняющихся модусах Здесь и Там в отношении некоего, хотя и не находящегося в поле внимания, но всегда попутно осознаваемого абсолютного Здесь (в собственном теле, которое также являет себя при этом). Однако любой зафиксированный способ явления одного из таких модусов [Здесь и Там] — например, игральная кость, которая находится здесь, в непосредственной близости, — сам в свою очередь оказывается синтетическим единством некоторого многообразия соответствующих способов явления. А именно: вещь вблизи является как одна и та же то с этой, то с той стороны.»>[7]
Но для того, чтобы из различных аспектов вещи возник синтез ее сущности (эйдетический синтез), необходимо, по мнению Гуссерля, постулировать единство того сознания, в котором различные аспекты синтезируются воедино: «Их единство есть единство синтеза — не вообще некая непрерывная связность cogitationes (как если бы они были внешне склеены друг с другом), но связность в Одном сознании, в котором конституируется единство интенциональной предметности как предметности многообразных способов явления»>[8]. Единство сознания дается нам прежде всего как сознание единства переживаемого нами времени. Самым непостижимым моментом эйдетического синтеза является то, что мы вынуждены превращать наше собственное сознание в его же интенциональный объект. Мы как бы должны, подобно декартовскому маленькому человеку внутри большого, отступить от самих себя, чтобы превратить наше собственное сознание в объект созерцания.
Гуссерль, конечно, прекрасно сознавал возникающие тут проблемы. Он писал: «Поскольку эти способы явления внутреннего сознания времени сами суть интенциональные переживания и в рефлексии снова должны быть необходимо даны как темпоральности, мы сталкиваемся с основной парадоксальной особенностью жизни сознания, которая, как кажется, отягощена бесконечным регрессом. Объяснение и понимание этого факта порождает исключительные трудности». Иными словами, мы должны предположить наличие второго сознания, которое способно созерцать первое, третьего, способного созерцать второе, и т.д.
Эта сложность, в глазах Гуссерля, входила в общий комплекс проблем, связанных с так называемой феноменологической редукцией (epoche), необходимость которой была провозглашена им еще в 1905 году в «Идеях 1». Смысл редукции заключался в выведении за скобки референциального мира, к которому отсылали феномены. Наше сознание устроено так, что мы не сознаем, что имеем дело только с явлениями вещей в нас самих, а не с вещами как таковыми. Мы не говорим, что видим видимость стола, но — что видим стол. Редукция как раз и направлена на разрыв отношений между феноменами и референтным миром. Задача эта выполнима только с помощью выведения за скобки моего «естественного» отношения к миру, того, что Гуссерль называл «естественной установкой» (die naturliche Einstellung). Epoche — это попытка превратить саму данную нам в сознании видимость в объект рефлексии и созерцания. При этом, по мнению Гуссерля, наряду с «простым», эмпирическим созерцанием феномена может возникнуть и некое особое «сущностное созерцание», обладающее всеми чертами интуиции: «Каким бы ни было индивидуальное созерцание, адекватным или нет, оно может обратиться в сущностное глядение. <...> А в этом заключено следующее: сущность (эйдос) — это предмет нового порядка. Подобно тому, как данное в индивидуальном созерцании есть индивидуальный предмет, данное в сущностном созерцании есть чистая сущность. Тут не просто внешняя аналогия, а коренная общность. И высматривание сущности — тоже созерцание, подобно тому, как эйдетический предмет тоже предмет»

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В эту книгу вошли статьи, написанные на основе докладов, которые были представлены на конференции «„Революция, данная нам в ощущениях“: антропологические аспекты социальных и культурных трансформаций», организованной редакцией журнала «Новое литературное обозрение» и прошедшей в Москве 27–29 марта 2008 года. Участники сборника не представляют общего направления в науке и осуществляют свои исследования в рамках разных дисциплин — философии, истории культуры, литературоведения, искусствоведения, политической истории, политологии и др.

Сборник включает в себя материалы III Приговских чтений, состоявшихся в 2012 году в Венеции и Москве по инициативе Фонда Д. А. Пригова и Лаборатории Д. А. Пригова РГГУ В этом смысле сборник логично продолжает издание «Неканонический классик», вышедшее в «Новом литературном обозрении» в 2010 году. В центре внимания авторов находится творчество Дмитрия Александровича Пригова как масштабный антропологический проект, рассматриваемый на пересечении разных культурных контекстов — философских исканий XX века, мирового концептуализма, феноменологии визуальности и телесности.
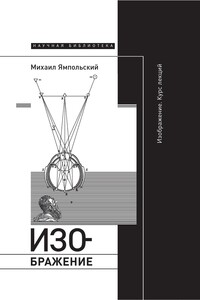
Книга Михаила Ямпольского — запись курса лекций, прочитанного в Нью-Йоркском университете, а затем в несколько сокращенном виде повторенного в Москве в «Манеже». Курс предлагает широкий взгляд на проблему изображения в природе и культуре, понимаемого как фундаментальный антропологический феномен. Исследуется роль зрения в эволюции жизни, а затем в становлении человеческой культуры. Рассматривается возникновение изобразительного пространства, дифференциация фона и фигуры, смысл линии (в том числе в лабиринтных изображениях), ставится вопрос о возникновении формы как стабилизирующей значение тотальности.
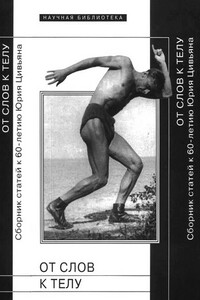
Сборник приурочен к 60-летию Юрия Гаврииловича Цивьяна, киноведа, профессора Чикагского университета, чьи работы уже оказали заметное влияние на ход развития российской литературоведческой мысли и впредь могут быть рекомендованы в списки обязательного чтения современного филолога.Поэтому и среди авторов сборника наряду с российскими и зарубежными историками кино и театра — видные литературоведы, исследования которых охватывают круг имен от Пушкина до Набокова, от Эдгара По до Вальтера Беньямина, от Гоголя до Твардовского.

Известный историк науки из университета Индианы Мари Боас Холл в своем исследовании дает общий обзор научной мысли с середины XV до середины XVII века. Этот период – особенная стадия в истории науки, время кардинальных и удивительно последовательных перемен. Речь в книге пойдет об астрономической революции Коперника, анатомических работах Везалия и его современников, о развитии химической медицины и деятельности врача и алхимика Парацельса. Стремление понять происходящее в природе в дальнейшем вылилось в изучение Гарвеем кровеносной системы человека, в разнообразные исследования Кеплера, блестящие открытия Галилея и многие другие идеи эпохи Ренессанса, ставшие величайшими научно-техническими и интеллектуальными достижениями и отметившими начало новой эры научной мысли, что отражено и в академическом справочном аппарате издания.

По убеждению японцев, леса и поля, горы и реки и даже людские поселения Страны восходящего солнца не свободны от присутствия таинственного племени ёкай. Кто они? Что представляет собой одноногий зонтик, выскочивший из темноты, сверкая единственным глазом? А сверхъестественная красавица, имеющая зубастый рот на… затылке? Всё это – ёкай. Они невероятно разнообразны. Это потусторонние существа, однако вполне материальны. Некоторые смертельно опасны для человека, некоторые вполне дружелюбны, а большинство нейтральны, хотя любят поиграть с людьми, да так, что тем бывает отнюдь не весело.

Книга посвящена истории отечественной фотографии в ее наиболее драматичный период с 1917 по 1955 годы, когда новые фотографические школы боролись с традиционными, менялись приоритеты, государство стремилось взять фотографию под контроль, репрессируя одних фотографов и поддерживая других, в попытке превратить фотографию в орудие политической пропаганды. Однако в это же время (1925–1935) русская фотография переживала свой «золотой век» и была одной из самых интересных и авангардных в мире. Кадры Второй мировой войны, сделанные советскими фотографами, также вошли в золотой фонд мировой фотографии. Книга адресована широкому кругу специалистов и любителей фотографии, культурологам и историкам культуры.
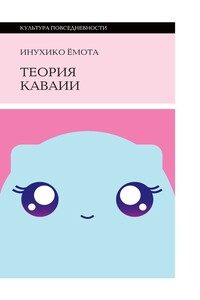
Современная японская культура обогатила языки мира понятиями «каваии» и «кавайный» («милый», «прелестный», «хорошенький», «славный», «маленький»). Как убедятся читатели этой книги, Япония просто помешана на всем милом, маленьком, трогательном, беззащитном. Инухико Ёмота рассматривает феномен каваии и эволюцию этого слова начиная со средневековых текстов и заканчивая современными практиками: фанатичное увлечение мангой и анимэ, косплей и коллекционирование сувениров, поклонение идол-группам и «мимимизация» повседневного общения находят здесь теоретическое обоснование.

Данное интересное обсуждение развивается экстатически. Начав с проблемы кризиса славистики, дискуссия плавно спланировала на обсуждение академического дискурса в гуманитарном знании, затем перебросилась к сюжету о Судьбах России и окончилась темой почтения к предкам (этакий неожиданный китайский конец, видимо, — провидческое будущее русского вопроса). Кажется, что связанность замещена пафосом, особенно явным в репликах А. Иванова. Однако, в развитии обсуждения есть своя собственная экстатическая когерентность, которую интересно выявить.

Эти заметки родились из размышлений над романом Леонида Леонова «Дорога на океан». Цель всего этого беглого обзора — продемонстрировать, что роман тридцатых годов приобретает глубину и становится интересным событием мысли, если рассматривать его в верной генеалогической перспективе. Роман Леонова «Дорога на Океан» в свете предпринятого исторического экскурса становится крайне интересной и оригинальной вехой в спорах о путях таксономизации человеческого присутствия средствами русского семиозиса. .