Екатерина - [4]
Третьего дня у Фике уже отняли куклы. Она не плакала. Она теперь будет играть с носовым платком.
Бабет смотрела в окно.
До чего же грустны ноябрьские сумерки в Штетине. А где они не грустны? Ах нет, в Штетине особенно! В Штетине они не имеют цвета, не имеют начала, не имеют конца. Так кажется.
Ветер выл.
«Самое гадкое, — подумала Фике, — когда воет ветер, или когда воет скрипка или собака. А другим людям почему-то скрипка и орган нравятся, а если воет собака, они сердятся». Фике это было непонятно, «Не все ли равно».
Бабет сказала:
— А теперь прочтем вечернюю молитву.
Девочка опустилась на колени. Но читать молитву она не смогла. Ее стал душить кашель. Пришлось взять Фике на руки и отнести на кровать.
Утром мягкой стопой вошел в комнату врач. Он был в красном плаще, в башмаках с тупыми носками и при шпаге. Но рассуждения порядочного в медицинских науках не имел.
9
Болезнь, начавшаяся рвотным кашлем и колотьями в левом боку и сильным жаром, имела бедственные следствия: у ребенка искривился позвоночник.
Врач в красном плаще входил и уходил мягкой стопой, а худенькое тельце имело вид зигзага: одно плечо встало над другим, под крайним коротким ребром образовалась впадина, правое бедро опустилось, а тонкая шея сломалась, как стебелек, и окостенела.
Круглые глаза Христиана-Августа обрели лошадиную задумчивость, Иоганна перестала говорить о брауншвейгских маскарадах.
Неслышно скользил по комнате мальчик с усыхающей ножкой.
Старый умный господин Больхаген сказал:
— Придется позвать палача. В Штетине только он один знает, как лечить такую болезнь.
Молодая женщина не решилась возражать. Она только разъяснила: «Конечно, ей бы не хотелось звать палача к кровати своей дочери, но так как в Штетине никто не знает, как приступить к ужасной болезни, то волей-неволей придется за ним послать».
На другой день, вместо врача в красном плаще, в комнату вошел палач.
Волосы висели у него по щекам, как собачьи уши. Рот был сухой, пасторский. Веки низкие. Из-под кафтана полувоенного покроя смотрела рубашка, очень белая.
Палач попросил, чтобы все оставили комнату.
Осмотр больной длился час и пятнадцать минут.
У палача были пальцы длинные, тонкие, холодные. Казалось, что они сделаны из прутьев тюремной решетки. Когда он касался ими Фике, по телу девочки пробегала дрожь.
— Вы приехали из Берлина? — спросила Фике, принимая палача за доктора, очень знаменитого.
— Да, деточка.
— А почему у вас нет шпаги?
Палач не знал, что ответить. Наконец отцу и матери, и господину Больхагену было разрешено войти в комнату. Палач сказал:
— Я пришлю в замок девушку. Каждое утро натощак она будет натирать своей слюною больные части тела.
Фике заплакала.
Палач погладил ее по головке своими холодными длинными пальцами.
— Кроме того, я сделаю для вашего ребенка особый корсет. Не снимайте его ни днем, ни ночью. Приходить я буду через день. Девочка выпрямится.
Палач ушел.
У Иоганны-Елисаветы вырвался вздох облегчения. Христиан-Август смотрел на своего мудрого старого друга счастливыми глазами.
— Вы слыхали, господин Больхаген, что он сказал?
— Да, сударь.
— Он уверен, что Фике выпрямится.
— Да, он в этом уверен.
Палач приходил в замок, как обещал.
Через полтора года стали появляться надежды на выздоровление.
Слюна девственницы помогла.
Во дворе замка долгоногий офицер, сверкающий позументами, делал развод солдатам в красных штанах и синих мундирах.
Мальчик с усыхающей ножкой прилип к стеклу. Пухлый нос его расплющился в лепешку.
— Направо-о!.. Налево-о!.. — восклицал хромой мальчик, представляя себя долгоногим офицером в сверкающих позументах.
— Уходи к себе в комнату. Ты мне мешаешь, — строго сказала кривобокая девочка. Она заучивала наизусть псалом.
«Рассуди меня, Господи, ибо я в непорочности моей и, уповая на Господа, не поколеблюсь, искуси меня, Господи, и испытай меня; расплавь внутренности мои и сердце мое». Так начинался двадцать пятый псалом Давида. Двадцать четыре псалма Фике уже затвердила. Всего их сто пятьдесят.
«Плохо живется на свете будущим королевам. Они должны быть очень учеными, — думала Фике, — они должны знать сто пятьдесят псалмов Давида и уметь читать и писать по-французски и по-немецки. Хорошо еще, что пастор не очень помнит историю с географией. А то бы и эти науки пришлось знать. Но вот уже совсем непонятно, к чему нужны будущим королевам басни господина Лафонтена. Другое дело — танцы. Королевы устраивают маскарады и балы».
Фике просила Иоганну-Елисавету, чтобы она снова разрешила приходить учителю в белых шелковых чулках.
— Ах, мама, это очень удобный железный корсет. Ну, право же, он мне ни капельки не мешает.
Когда Бабет не было в комнате, кривобокая девушка немного упражнялась в кадрили. Это было очень больно. У Фике по щекам текли слезы. Она плакала и танцевала, плакала и танцевала. Но ничего не поделаешь, если хочешь носить корону, надо плакать и танцевать, плакать и танцевать.
Фике не терпелось взглянуть в окно. «Может быть, из ворот выйдет господин Больхаген». Но шея не поворачивалась. Палач слишком туго обмотал ее черной лентой.
«А вдруг господин Больхаген опять принесет газету и станет читать вслух. Вчера было так интересно».
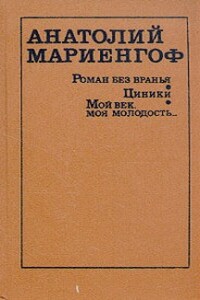
В 1928 году в берлинском издательстве «Петрополис» вышел роман «Циники», публикация которого принесла Мариенгофу массу неприятностей и за который он был подвергнут травле. Роман отразил время первых послереволюционных лет, нэп с присущими времени социальными контрастами, противоречиями. В романе «Циники» все персонажи вымышленные, но внимательный читатель найдет аллюзии на современников автора.История одной любви. Роман-провокация. Экзотическая картина первых послереволюционных лет России.
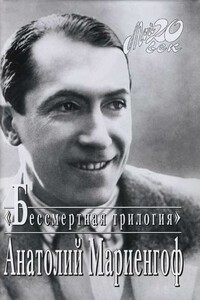
Анатолий Борисович Мариенгоф (1897–1962), поэт, прозаик, драматург, мемуарист, был яркой фигурой литературной жизни России первой половины нашего столетия. Один из основателей поэтической группы имажинистов, оказавшей определенное влияние на развитие российской поэзии 10-20-х годов. Был связан тесной личной и творческой дружбой с Сергеем Есениным. Автор более десятка пьес, шедших в ведущих театрах страны, многочисленных стихотворных сборников, двух романов — «Циники» и «Екатерина» — и автобиографической трилогии.

В издание включены романы А. Б. Мариенгофа «Циники» и «Бритый человек». Впервые опубликованные за границей, в берлинском издательстве «Петрополис» («Циники» – в 1928 г., «Бритый человек» – в 1930 г.), в Советской России произведения Мариенгофа были признаны «антиобщественными». На долгие годы его имя «выпало» из литературного процесса. Возможность прочесть роман «Циники» открылась русским читателям лишь в 1988 году, «Бритый человек» впервые был издан в России в 1991-м. В 1991 году по мотивам романа «Циники» снял фильм Дмитрий Месхиев.

Анатолий Борисович Мариенгоф родился в семье служащего (в молодости родители были актерами), учился в Нижегородском дворянском институте Императора Александра II; в 1913 после смерти матери переехал в Пензу. Окончив в 1916 пензенскую гимназию, поступил на юридический факультет Московского университета, но вскоре был призван на военную службу и определен в Инженерно-строительную дружину Западного фронта, служил заведующим канцелярией. После Октябрьской революции вернулся в Пензу, в 1918 создал там группу имажинистов, выпускал журнал «Комедиант», принимал участвие в альманахе «Исход».

В этот сборник вошли наиболее известные мемуарные произведения Мариенгофа. «Роман без вранья», посвященный близкому другу писателя – Сергею Есенину, – развенчивает образ «поэта-хулигана», многие овеявшие его легенды и знакомит читателя с совершенно другим Есениным – не лишенным недостатков, но чутким, ранимым, душевно чистым человеком. «Мой век, мои друзья и подруги» – блестяще написанное повествование о литературном и артистическом мире конца Серебряного века и «бурных двадцатых», – эпохи, когда в России создавалось новое, модернистское искусство…
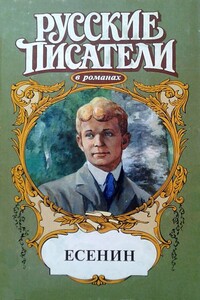
Есенин.Поэт — «хулиган»?! Поэт — «самородок»?!На Западе его называли то «русским соловьём», то безумцем. Его творчество вызывало восторженную истерию.Его личная жизнь была бурной, яркой и скандальной.Его любили друзья и обожали женщины.В его судьбе было множество загадок и тайн, многие из которых открывает великолепный роман Александра Андреева!Дополняет образ Есенина роман его друга Анатолия Мариенгофа «Роман без вранья».«Роман без вранья» прочтётся с большим интересом и не без пользы; тех, кого мы знаем как художников, увидим с той их стороны, с которой меньше всего знаем, а это имеет значение для более правильной оценки их.

В книгу русского поэта Павла Винтмана (1918–1942), жизнь которого оборвала война, вошли стихотворения, свидетельствующие о его активной гражданской позиции, мужественные и драматические, нередко преисполненные предчувствием гибели, а также письма с войны и воспоминания о поэте.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга представляет собой философскую драму с элементами романтизма. Автор раскрывает нравственно-психологические отношения двух поколений на примере трагической судьбы отца – японского пленного офицера-самурая и его родного русского любимого сына. Интересны их глубокомысленные размышления о событиях, происходящих вокруг. Несмотря на весь трагизм, страдания и боль, выпавшие на долю отца, ему удалось сохранить рассудок, честь, благородство души и благодарное отношение ко всякому событию в жизни.Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся философией жизни и стремящихся к пониманию скрытой сути событий.

Книга посвящена путешествию автора по Забайкалью и Дальнему Востоку в 60-е годы XIX в. Внимательным взглядом всматривается писатель в окружающую жизнь, чтобы «составить понятие об амурских делах». Он знакомит нас с обычаями коренных обитателей этих мест — бурят и гольдов, в нескольких словах дает меткую характеристику местному купечеству, описывает быт и нравы купцов из Маньчжурии и Китая, рассказывает о нелегкой жизни амурских казаков-переселенцев. По отзывам современников Стахеев проявил себя недюжинным бытописателем.
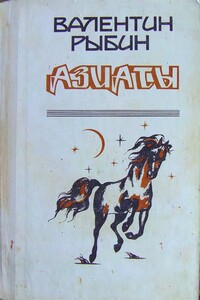
В основе романа народного писателя Туркменистана — жизнь ставропольских туркмен в XVIII веке, их служение Российскому государству.Главный герой романа Арслан — сын туркменского хана Берека — тесно связан с Астраханским губернатором. По приказу императрицы Анны Иоановны он отправляется в Туркмению за ахалтекинскими конями. Однако в пределы Туркмении вторгаются полчища Надир-шаха и гонец императрицы оказывается в сложнейшем положении.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.