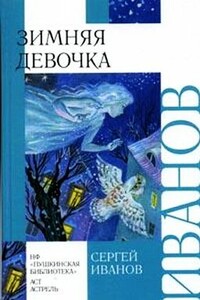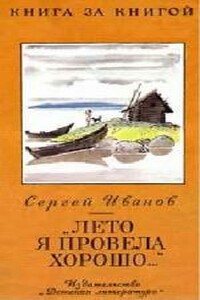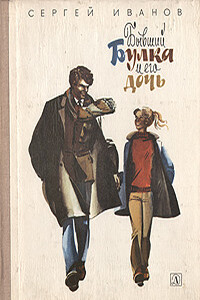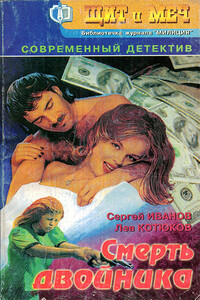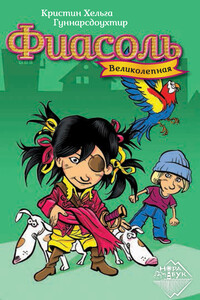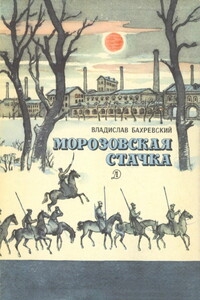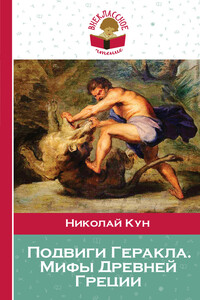А ведь Алена даже обвиняемой не была. Только подозреваемой.
Теперь Сережа все это уразумел. Понял, что ему предстоит у Алены Робертовны… Нет, не героический поступок под громкие овации восхищенной публики — ему предстоит прощение просить.
И, невольно весь сжавшись, он сказал:
— Не бойся. Я все беру на себя.
— Я не боюсь, Сережа. Но ты запомни свои слова.
— Запомню.
И тут ему стало страшно… Ну, страшновато. Непонятно? А вы попробуйте когда-нибудь сказать: «Спокойно. Все беру на себя»…
Быть того не может, но и Тане стало сейчас страшновато. Она поняла: в этот момент Садовничья и Крамской рвут навсегда. Во веки веков. У них разные дороги.
Никогда Таня не жалела о таких вещах — первая рвала. И вот вдруг настал случай пожалеть.
О чем жалела она?
О том, что пропадает такой способный ученик? Что уходит мальчишка, который мог бы в нее здорово влюбиться?
Но ведь учеников она себе наберет сколько хочешь. И мальчишек, готовых в нее влюбиться, полон свет. И перебоев с друзьями пока не случалось у Тани Садовничьей.
Что же ей тогда этот Крамской? И не умела сказать себе. Только чувствовала грусть и досаду.
Так кладоискатель, наверное, придет на заветное место, ходит-ходит: где же оно зарыто, сокровище? И не найдет — то ли сообразительности не хватило, то ли чуткости. И уйдет ни с чем. С одной горькой досадой.
Но ни словом, ни взглядом Таня Садовничья не выдала себя.
— Вечером позвони…
Еще хотела добавить слово: «Доложись». Нет, не добавила. Теперь это было уже ни к чему. Просто ушла. Конверт с клочками остался лежать на лавке.
Весь этот разговор — такой важный! — продолжался чуть больше десяти минут. Второе, укрытое кухонным полотенцем поверх крышки, даже не успело остыть. И оно было вкусным. А может, и невкусным. Сережа этого не знал.
Он быстро съел котлету и картошку… Обычно он ел довольно медленно — так было принято у них в семье. Но сейчас он чувствовал еду не больше, чем мясорубка, которая крутила эти котлеты.
Бабушка, стараясь оставаться равнодушной и незамеченной, неотрывно следила за ним. Если б она была другим человеком, она бы, наверное, предложила Сереже еще полкотлеточки: быстро съел, значит, против добавки возражать не должен.
Но бабушка была именно «тем» человеком. И видела, как сейчас далек Сережа от этой котлеты и от нее самой — шестидесятишестилетней Елизаветы Петровны Крамской.
Я не нужна ему в советчики, подумала она. И подумала это с горечью. Но без обиды. Не могла она обижаться на Сережу: слишком любила его. И если обижалась на кого, так только на человеческую природу: что она устроила некоторые вещи, совсем их не обдумав.
Вырос из бабушки, как из прошлогоднего костюмчика… Ну что поделаешь, думала она.
А снова до бабушки еще не дорос. И не понимает. А когда поймет — как бы уж поздно не было…
Ей теперь оставалось только одно: незаметно следить за ним и стараться понять, по хорошей он дороге идет или по плохой. И если по плохой, то защитить, броситься вперед старой, но еще сильной тигрицей… Хотя по складу своему она вовсе не была тигрицей.
Однако знала, если понадобится, если за Сережу, то сил у нее достанет быть и решительной, и сильной, и даже злой!
Внук ее в этот момент думал о Тане.
Вернее, это неправильное слово — «думал», потому что никаких стройных мыслей у Сережи не было. В его сердце громоздились разные бурные и часто противоположные чувства, а в голове мелькали обрывки разговоров, которые он сам сейчас придумывал и сам сейчас же отбрасывал — в пустоту, в забвение и вечную смерть.
Пожалуй, если бы Сережа Крамской был повзрослев, можно было бы сказать, что он мучается. Он и в самом деле мучился, только не понимал этого. Он спорил с Таней и поминутно ее побеждал, вернее, убеждал. Но ведь Таня была не настоящая, а, так сказать, мысленная, выдуманная. Оттого и победы его были подобны победам над кораблями из игрального автомата.
А ведь они даже не поссорились. Да, ни ругательных, ни просто громких слов произнесено не было. И будь на месте Сережи взрослый человек, он непременно воспользовался бы этим обстоятельством. Попробовал бы помириться.
Но Сережа знал душой, что между ним и Таней случилось что-то куда важней и хуже обычной громкой ссоры.
Если перевести на взрослый язык, то, наверное, надо было бы употребить слово «разрыв». Или, пожалуй, точнее: «раскол», потому что «разрыв» — это когда люди любили-любили друг друга, а потом… разрыв.
Раскол — дело посерьезней. Раскол — когда расходятся во взглядах. Вот как раз такое и получилось у Тани и Сережи.
И если даже этот раскол попробовать склеить через какое-то время, все равно трещины останутся. Сколько бы ты ни прожил — хоть двадцать, хоть семьдесят лет, — эти трещины не срастутся. Они навсегда.
Было Сереже Крамскому в эту минуту тоскливо и страшно. С особой отчетливостью он вдруг подумал: теперь и незачем сидеть за одной партой.
Это была как бы не его мысль. Это Таня подумала у него в голове.
Тут же он почувствовал, как сила оставляет его. Он ведь был сильный — с самого первого сентября. Но он был Таней сильный… Неужели только Таней? А теперь опять превратится в захудалую Корму?