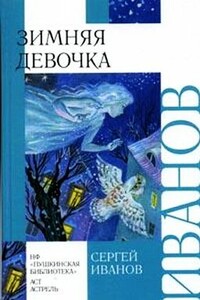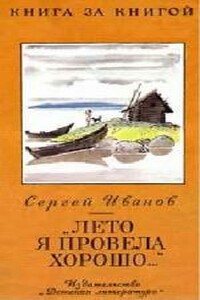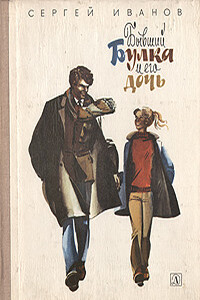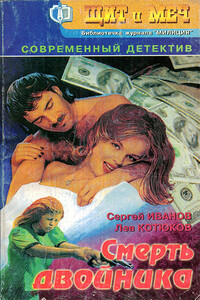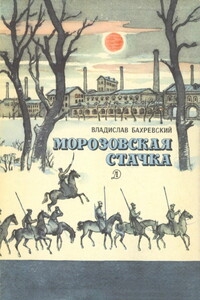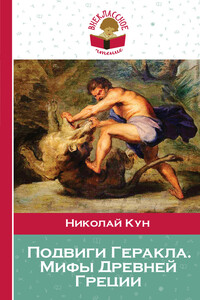И налетела, что называется, с ковшом на брагу — к телефону подошла сама завуч. По голосу и по невнятным ответам своей любимицы Людмила Ивановна поняла, что здесь каким-то образом опять замешан журнал.
— Ладно, не волнуйся… Не волнуйся, тебе говорю. Отдохни.
И подумала: «Ну я, голубчики, с вами сейчас переговорю!»
Она всегда приходила в школу к первому уроку, хотя у нее самой был занят только второй или даже третий час. Это она делала (как сама же полушутя-полусерьезно признавалась себе) исключительно для собственного спокойствия: она была уверена, что при ней ничего плохого в школе случиться не может.
Причем не обязательно она в эти свободные часы занималась чем-то учебным или педагогическим. Сейчас, например, она собиралась почитать «Новый мир», который ей дали на два дня… И вот пожалуйста!
Поэтому завуч была настроена особенно решительно. Как сборная СССР перед матчем с канадцами.
Но едва вошла она в класс, посмотрела в эти рожицы, на которых была написана полная беззащитная решимость жизнь задешево не отдавать, стало ей стыдно! Кого же ты бить-то хотела?.. Неожиданно для себя она заговорила с ними совсем не так, как собиралась.
В шестом классе ученик обычно бывает уже достаточно опытен. Его дежурной душеспасительной беседой не проймешь. Тут много есть приемов. Первый — просто не поверить, сказать себе: «А-а… слыхали мы это сто раз».
Когда же не поверить невозможно, когда слово учителя пронимает до костей, рекомендуют отключиться, пропускать все мимо ушей.
Но бывает, что не может сгодиться ни один прием — это в тех случаях, когда у человека совести побольше и говорит с ним действительно настоящий учитель, действительно хороший и умный человек.
Шестой «А», как мы заметили, любил детективы, следствия и все тому подобное. Но шестой «А» был, что ни говори, воспитан Аленой Робертовной, и, значит, был классом неплохим. Пусть сложным (как любят выражаться некоторые), но неплохим. Притом говорил с ним человек хороший, говорил искренне.
И вот жители шестого «А» стали с каждой минутой чувствовать себя все неуютнее, все неуютней… Что же делается такое! Как же так она умеет, эта Людмила Ивановна? Ее, пожалуй, еще немного послушаешь, действительно уверишься, что ты виновен в этом злосчастном журнале. И помчишь признаваться в том, чего ты вовсе не совершал. Гипноз какой-то.
И вот от парты к парте поползло открытое письмо: Серова Садовничьей. Серова сидела от Тани точно через весь класс по диагонали. Одна за первым столом у двери, другая за последним у окна. Значит, каждый может ознакомиться с данным документом. А Лена Серова того и хотела:
«Садовничья Таня! Почему мы должны терпеть это, выслушивая, как рыбы? Мы не делали, так за что же нас жалеть и ругать? Предлагаю честно встать и выложить наши доказательства и улики. Я даже могу это сделать сама? Е. Серова».
И приписка: «Пусть каждый прочитает и поставит свою подпись — «за» или «против».
Лист был разделен на две половины. И в половине «За» уже стояла одна подпись Мироновой — верной серовской оруженосихи.
Минут за десять до звонка письмо приползло к Тане. Причем в половине «За» было много подписей, а в половине «Против» лишь малая запуганная стайка.
И все-таки решающее слово они оставили за Таней! Было чем гордиться. В таких случаях особенно бывает приятно, когда твой доверенный (ну и немного подчиненный) человек сам понимает это и сам тебе об этом говорит…
Дождешься от него!
«Доверенный человек» насупленно рассматривал листок, словно там могли быть еще изнанка, подкладка и тайные кармашки! Ему-то можно рассматривать, он ничего не решает. А вот как поступить Тане?
Если она хочет укрепить свое положение в классе, надо соглашаться: зачем идти против всех?
Но тут была одна подробность: Серова, видите ли, «готова сделать сама». То есть готова… взять себе славу!
Таня посмотрела на список «Против» — правильно: Самсонова здесь. Потому что сообразила…
Вопрос надо было решать быстро и психологически точно. Дело из рук выпускать нельзя. Все подготовлено, все отлажено. Еще немного — и Татьяна Садовничья может получить известность не хуже самого Шерлока Холмса. Тем более она женщина.
Только надо аккуратно отмести всех Серовых, вообще всех любительниц позариться на ее успех.
И поможет ей в этом насупленное доверенное лицо, несговорчивый Ватсон.
— Ну? Что ты думаешь?
— Сами же дали последнюю попытку… Теперь отнимают! Она даже на урок не пошла!
— Правильно! — Таня вырвала лист из тетради по русскому. Написала: «Мы должны быть более твердыми в принятых решениях. Обещали дать ей последний шанс? Значит, так и надо поступать!» Пододвинула лист Сереже.
И опять поползла по рядам белая медленная молния… Кто видел шаровые молнии, говорят, они тоже так вот движутся — медленно и как бы нерешительно, словно чего-то выжидают или кого-то ищут.
Особенно долго над запиской сидела Самсонова. Почему? Неизвестно. И Таня Садовничья даже испугалась, что Лида сейчас встанет, и… Тогда вся слава Самсонихе!
Но какое-то лицо у нее было неподходящее для этого решительного шага. «Эх ты, — подумала Таня, — я бы сейчас на твоем месте…» Испытывая чувство явного превосходства (и, признаемся в скобках, облегчения), она увидела, как записка наконец отчалила от Лидиной парты.