Эго, или Наделенный собой - [20]
Теперь, когда мы уточнили характер этой привилегии, она удваивается: желание, навязывая себя мне, индивидуализирует меня. Мысль, направленная на объект, меня идентифицировать не способна, ибо мыслить объект, который помыслил я, по праву мог бы всякий другой – ведь мое эпистемологическое первенство над объектом действительно лишь постольку, поскольку я конституирую его в соответствии с правилами объективации, которым я, как и любой другой субъект, применяющий к действительности всеобщие правила, должен следовать: чтобы подтвердить мое «право пользователя», рациональность объекта должна сохранить за мной всеобщий характер и, следовательно, анонимность. Желание, наоборот, меня идентифицирует: мы оказываемся друг перед другом лицом к лицу, никакого экрана (будь то объект или всеобщая рациональность) между нами нет. Желание воздействует на меня настолько непосредственно, что первый собственный образ я получаю, словно в зеркале, именно от него: образ этот служит мне не просто зеркальным отражением, но кумиром, ибо на желание, на которое откликаюсь я, кроме меня не отвечает никто. Больше того, если бы и казалось, что кто-то другой может отозваться на него так же, как я, то либо реакция его не совпадала бы с моей полностью, и тогда пришлось бы признать наличие двух разных желаний, либо этот другой стал бы моим двойником, пусть даже внутри коллективной идентичности, спровоцированной одним и тем же коллективным желанием. В конечном счете то, что со мной совершает желание, я воспринимаю и даю ответ сам, каков я есть. Мое желание – точнее, желание, на которое я отвечаю и которому я отдаюсь, – знает, кто я такой, лучше, чем когда-либо сможет узнать моя целенаправленная, интенциональная мысль. Мое желание уготовляет мне самость, понять которую мне не суждено никогда, но которая, напротив, «понимает», объемлет меня заранее. Уверенность в своей сущности, отнюдь не следующая из моей убежденности в собственном существовании, все же приходит ко мне, но вовсе не от моей целенаправленной мысли, а от иного, которое изменить нельзя, – от иного моего собственного желания. Ибо желание это не исходит от меня, а выпадает на мою долю.
Из этого положения дел Августин сумел сделать гениальные выводы: он сумел увидеть и обнаружить желание столь безусловное, что любой собеседник, не колеблясь, признал бы его своим. Формулировку этого желания он позаимствовал у Цицерона: «сит vellet in Hortensio dialogo ab aliqua re certa, de qua nullus ambigueret, sumere suae disputationis exordium „Beati certe“, inquit, „omnes esse volumus“?» («пожелав в диалоге Гортензий' построить свое доказательство на том, что никто не станет оспаривать, он высказал следующее: „Быть счастливым – вот, безусловно, то, чего желаем мы все“»)[97]. Поскольку чтение этого места сыграло, судя по многочисленным и настойчивым заявлениям самого Августина, решающую роль в его обращении к Богу, можно сделать вывод, что главное открытие заключалось для него в осознании живущего в нем безусловного желания – желания блаженства. Именно об этом свидетельствует, похоже, следующее место в «Исповеди»: «Nonne ipsa est vita beata, quam omnes volunt et omnino qui nolit nemo est? <…>. Nota est igitur omnibus, qui una voce si interrogari possent, utrum beati esse vellent, sine ulla dubitatione velle responderent. Quod non fieret, nisi res ipsa, cujus nomen est, eorum memoria teneretur» («Разве не все хотят счастливой жизни? Никого ведь нет, кто бы не хотел ее! <…>. Она, следовательно, известна всем, и если бы можно было разом спросить всех: хотят ли они быть счастливыми, все, без сомнения, ответили бы, что хотят. Этого не могло бы случиться, если бы у всех не сохранилось
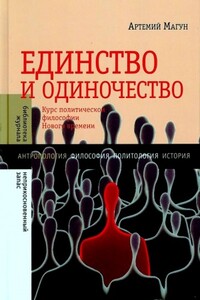
Новая книга политического философа Артемия Магуна, доцента Факультета Свободных Искусств и Наук СПБГУ, доцента Европейского университета в С. — Петербурге, — одновременно учебник по политической философии Нового времени и трактат о сущности политического. В книге рассказывается о наиболее влиятельных системах политической мысли; фактически читатель вводится в богатейшую традицию дискуссий об объединении и разъединении людей, которая до сих пор, в силу понятных причин, остается мало освоенной в российской культуре и политике.

Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена одному из влиятельнейших философских течений в XX в. — феноменологии. Автор не стремится изложить историю возникновения феноменологии и проследить ее дальнейшее развитие, но предпринимает попытку раскрыть суть феноменологического мышления. Как приложение впервые на русском языке публикуется лекционный курс основателя феноменологии Э. Гуссерля, читанный им в 1910 г. в Геттингене, а также рукописные материалы, связанные с подготовкой и переработкой данного цикла лекций. Для философов и всех интересующихся современным развитием философской мысли.

Занятно и поучительно прослеживать причудливые пути формирования идей, особенно если последние тебе самому небезразличны. Обнаруживая, что “авантажные” идеи складываются из подхваченных фраз, из предвзятой критики и ответной запальчивости — чуть ли не из сцепления недоразумений, — приближаешься к правильному восприятию вещей. Подобный “генеалогический” опыт полезен еще и тем, что позволяет сообразовать собственную трактовку интересующего предмета с его пониманием, развитым первопроходцами и бытующим в кругу признанных специалистов.

Данная работа представляет собой предисловие к курсу Санадиса, новой научной теории, связанной с пророчествами.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Вальтер Беньямин – воплощение образцового интеллектуала XX века; философ, не имеющий возможности найти своего места в стремительно меняющемся культурном ландшафте своей страны и всей Европы, гонимый и преследуемый, углубляющийся в недра гуманитарного знания – классического и актуального, – импульсивный и мятежный, но неизменно находящийся в первом ряду ведущих мыслителей своего времени. Каждая работа Беньямина – емкое, но глубочайшее событие для философии и культуры, а также повод для нового переосмысления классических представлений о различных феноменах современности. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

«Совершенное преступление» – это возвращение к теме «Симулякров и симуляции» спустя 15 лет, когда предсказанная Бодрийяром гиперреальность воплотилась в жизнь под названием виртуальной реальности, а с разнообразными симулякрами и симуляцией столкнулся буквально каждый. Но что при этом стало с реальностью? Она исчезла. И не просто исчезла, а, как заявляет автор, ее убили. Убийство реальности – это и есть совершенное преступление. Расследованию этого убийства, его причин и следствий, посвящен этот захватывающий философский детектив, ставший самой переводимой книгой Бодрийяра.«Заговор искусства» – сборник статей и интервью, посвященный теме современного искусства, на которое Бодрийяр оказал самое непосредственное влияние.

Серия «Фигуры Философии» – это библиотека интеллектуальной литературы, где представлены наиболее значимые мыслители XX–XXI веков, оказавшие колоссальное влияние на различные дискурсы современности. Книги серии – способ освоиться и сориентироваться в актуальном интеллектуальном пространстве. Один из самых значительных философов современности Ален Бадью обращается к молодому поколению юношей и девушек с наставлением об истинной жизни. В нынешние времена такое нравоучение интеллектуала в лучших традициях Сократа могло бы выглядеть как скандал и дерзкая провокация, но смелость и бескомпромиссность Бадью делает эту попытку вернуть мысль об истинной жизни в философию более чем достойной внимания.

В красном углу ринга – философ Славой Жижек, воинствующий атеист, представляющий критически-материалистическую позицию против религиозных иллюзий; в синем углу – «радикально-православный богослов» Джон Милбанк, влиятельный и провокационный мыслитель, который утверждает, что богословие – это единственная основа, на которой могут стоять знания, политика и этика. В этой книге читателя ждут три раунда яростной полемики с впечатляющими приемами, захватами и проходами. К финальному гонгу читатель поймет, что подобного интеллектуального зрелища еще не было в истории. Дебаты в «Монструозности Христа» касаются будущего религии, светской жизни и политической надежды в свете чудовищного события: Бог стал человеком.
