Эго, или Наделенный собой - [14]
Такое понимание памяти как тавтологической, так сказать, способности не должно удивлять нас: речь идет о выводе, который допускал, среди прочих, уже Аристотель. Если держаться традиционного распределения ролей между тремя моментами времени в обыденном его понимании, где настоящему принадлежит область чувственного, будущему – надежда, а на долю памяти остается прошлое[83], то память обращается с прошлым либо так же, как ощущение – с настоящим, то есть как с пребывающим в ее распоряжении сущим, либо так же, как надежда – с будущим, то есть как с сущим, еще не поступившим в распоряжение, но возможным. Но в отношении прошлого и то, и другое абсурдно: не пребывая больше в нашем распоряжении, не существует оно и в возможности. То, что приходится на долю памяти, не находится в нашем распоряжении, но при этом оно – нечто большее, чем простая возможность, поскольку некогда было в нашем распоряжении. От метафизического истолкования памяти как припоминающей и воспроизводящей способности сущность memoria, таким образом, ускользает.
Необходима, следовательно, иная, более радикальная, концепция понятия памяти у Августина – концепция, которая обнаруживала бы другие функции памяти и ее скрытые свойства. Хотя память действительно содержит предшествующие ощущения и восприятия в образной форме (X, 8, 13), очень быстро выясняется, однако, что она выполняет и другие функции. Во-первых, она упорядочивает образы прошлого и соединяет их между собою, исходя из самого mens (X, 8,14). Во-вторых, в случае теоретических знаний (в форме не столько современной «науки», сколько так называемых «свободных искусств») она идет дальше, вбирая в себя не только образы вещей, но и сами вещи как таковые («nec eorum imagines, sed res ipsas gero» (X, 8, 15, 14, 168); «in memoria recondidi non tan turn imagines [rerum], sed ipsas [res]» (X, 10,17,14,170). И действительно, «сами вещи», с которыми имеет дело теория, не познаются нами как образы вещей во внешнем мире, поскольку в этом мире их нет. Но если вещи эти являются в памяти, не дублируя собой что бы то ни было из внешнего мира, то пребывать они должны в ином месте – в уме, то есть, разумеется, в самой memoria. Таким образом, memoria включает в себя неотделимый от ума акт cogitatio. Прежде всего потому, что память предполагает мысль[84]; но и потому также, что cogitare предполагает повторение актов сближения и соединения (cogere, colligerej терминов, подлежащих синтезу, а значит, предполагает и ось времени, включенную в cogitare, поддерживаемую им и допускающую прямое и обратное движение: «ut denuo nova excogitanda sint indidem iterum (neque enim est alia regio eorum) et cogenda rursus, ut sciri possint» («необходимо заново извлечь их мыслью как новые [чтобы привести вновь] еще раз в то [место] (ибо другого у них и нет) и собрать их заново воедино, чтобы познать» (X, 11, 18, 14, 172 и далее)). Для Августина, таким образом, cogitatio не включает в себя memoria как один из своих модусов (наряду с воображением, ощущением, волей, пониманием и т. д.) – наоборот, memoria включает в себя cogitatio, поскольку она одна обеспечивает его единство, вводя в него измерение времени. С немыслимой для Аристотеля и Декарта радикальностью Августин непосредственно предвосхищает здесь философию Канта.
Тем более справедливо это в отношении memoria чисел (X, 12, 19) и движений ума (X, 14, 21): хотя речь и идет, на первый взгляд, о двух противоположностях – наиболее абстрактных объектах, с одной стороны, и всецело пассивном течении мысли, с другой. Сходятся они обе в том, что не могут пребывать иначе, как «quasi remota interiore loco, non loco» («убранные куда-то внутрь, в место, которое к тому же местом не является» (X, 9, 16, 14, 168)). Memoria здесь не столько сохраняет в себе прошлые мысли, сколько содержит, вне временных различий, все в мире знания, которые лишены места, утопичны: числа, идеальные абстракции, испытанные сознанием переживания, их течение, перемены в этом течении, сочетания воображаемых объектов и, наконец, что самое важное, само cogitation. Память хранит все знания: точнее, все знания находятся там даже тогда, когда мы на самом деле о них не думаем, – это местопребывание без места как раз и именуется памятью: «memoria tribuens omne quod scimus, etiamsi non inde cogitemus» («приписывая памяти все, что мы знаем, даже если мы не отталкиваемся от нее, когда мыслим» (De Trinitate, XV, 21,40,16, 530)). Memoria оказывается, таким образом, местом того, у чего места нет, местом всех мыслей, которые с внешним миром не связаны. [85]
Более того, создается порой впечатление, что memoria предлагает истине место, наименее доступное моему мышлению: меня самого. В самом деле: Августин использует порой парадоксальное понятие памяти о себе самом. В частности тогда, когда он сталкивается с разительным противоречием между двумя одинаково рациональными требованиями: с одной стороны, любить возможно лишь то, что знаешь; с другой – всякий любит (и желает) блаженства, которого он никогда не испытывал и которое ему, стало быть, незнакомо (см. Marion J.-L.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборнике статей отечественного филолога и политолога Вадима Цымбурского представлены «интеллектуальные расследования» ученого по отдельным вопросам российской геополитики и хронополитики; несколько развернутых рецензий на современные труды в этих областях знания; цикл работ, посвященных понятию суверенитета в российском и мировом политическом дискурсе; набросок собственной теории рационального поведения и очерк исторической поэтики в контексте филологической теории драмы. Сборник открывает обширное авторское введение: в нем ученый подводит итог всей своей деятельности в сфере теоретической политологии, которой Вадим Цымбурский, один из виднейших отечественных филологов-классиков, крупнейший в России специалист по гомеровскому эпосу, посвятил последние двадцать лет своей жизни и в которой он оставил свой яркий след.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Ж.-П. Вернан - известный антиковед, в своей работе пытается доступно изложить происхождение греческой мысли и показать ее особенности. Основная мысль Вернана заключается в следующем. Существует тесная связь между нововведениями, внесенными первыми ионийскими философами VI в. до н. э. в само мышление, а именно: реалистический характер идеи космического порядка, основанный на законе уравновешенного соотношения между конститутивными элементами мира, и геометрическая интерпретация реальности,— с одной стороны, и изменениями в общественной жизни, политических отношениях и духовных структурах, которые повлекла за собой организация полиса,— с другой.
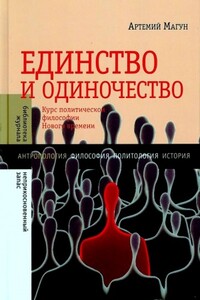
Новая книга политического философа Артемия Магуна, доцента Факультета Свободных Искусств и Наук СПБГУ, доцента Европейского университета в С. — Петербурге, — одновременно учебник по политической философии Нового времени и трактат о сущности политического. В книге рассказывается о наиболее влиятельных системах политической мысли; фактически читатель вводится в богатейшую традицию дискуссий об объединении и разъединении людей, которая до сих пор, в силу понятных причин, остается мало освоенной в российской культуре и политике.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Вальтер Беньямин – воплощение образцового интеллектуала XX века; философ, не имеющий возможности найти своего места в стремительно меняющемся культурном ландшафте своей страны и всей Европы, гонимый и преследуемый, углубляющийся в недра гуманитарного знания – классического и актуального, – импульсивный и мятежный, но неизменно находящийся в первом ряду ведущих мыслителей своего времени. Каждая работа Беньямина – емкое, но глубочайшее событие для философии и культуры, а также повод для нового переосмысления классических представлений о различных феноменах современности. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

«Совершенное преступление» – это возвращение к теме «Симулякров и симуляции» спустя 15 лет, когда предсказанная Бодрийяром гиперреальность воплотилась в жизнь под названием виртуальной реальности, а с разнообразными симулякрами и симуляцией столкнулся буквально каждый. Но что при этом стало с реальностью? Она исчезла. И не просто исчезла, а, как заявляет автор, ее убили. Убийство реальности – это и есть совершенное преступление. Расследованию этого убийства, его причин и следствий, посвящен этот захватывающий философский детектив, ставший самой переводимой книгой Бодрийяра.«Заговор искусства» – сборник статей и интервью, посвященный теме современного искусства, на которое Бодрийяр оказал самое непосредственное влияние.

Серия «Фигуры Философии» – это библиотека интеллектуальной литературы, где представлены наиболее значимые мыслители XX–XXI веков, оказавшие колоссальное влияние на различные дискурсы современности. Книги серии – способ освоиться и сориентироваться в актуальном интеллектуальном пространстве. Один из самых значительных философов современности Ален Бадью обращается к молодому поколению юношей и девушек с наставлением об истинной жизни. В нынешние времена такое нравоучение интеллектуала в лучших традициях Сократа могло бы выглядеть как скандал и дерзкая провокация, но смелость и бескомпромиссность Бадью делает эту попытку вернуть мысль об истинной жизни в философию более чем достойной внимания.

В красном углу ринга – философ Славой Жижек, воинствующий атеист, представляющий критически-материалистическую позицию против религиозных иллюзий; в синем углу – «радикально-православный богослов» Джон Милбанк, влиятельный и провокационный мыслитель, который утверждает, что богословие – это единственная основа, на которой могут стоять знания, политика и этика. В этой книге читателя ждут три раунда яростной полемики с впечатляющими приемами, захватами и проходами. К финальному гонгу читатель поймет, что подобного интеллектуального зрелища еще не было в истории. Дебаты в «Монструозности Христа» касаются будущего религии, светской жизни и политической надежды в свете чудовищного события: Бог стал человеком.