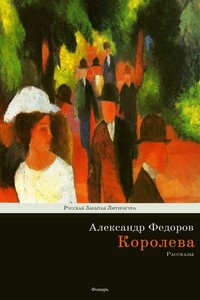— Ах, ну, как же вы не понимаете!
Он опустил глаза и сел на стул, кусая губы, почти не дыша.
Все же, чтобы не оставалось ни малейшего сомнения, она торопилась высказаться.
— Я ненадолго, только на минуту приняла вас, чтобы сказать все это. Он, видите ли, должен сейчас вернуться оттуда. Но мне больно, что все это должно пройти через чье-то страдание… Что делать!
Пристально на него посмотрела, ища какого-нибудь отклика, но лицо его оставалось бледным и замкнутым. Она продолжала, вздохнув:
— Что делать! Но уж если кто-то должен здесь страдать, пусть хоть не будет вражды.
— У меня нет вражды, — с видимым усилием выговорил он.
— У вас! — вырвалось у нее удивление. — Я не о вас. — Но тут смутило и встревожило новое. — Я хочу сказать: вас… вы… — она покраснела. — Вы должны быть выше таких чувств. У вас не может быть вражды ни к нему, ни ко мне.
Дружинин поднялся с изменившимся лицом. От красоты и кротости не осталось и следа. Наоборот, лицо стало злым и неприятным.
Он ответил резко и с ударением:
— Напрасно вы думаете. Я неправду сказал, что у меня нет вражды. Неправду. Не только вражда, но и ненависть, и злоба, и даже зависть к нему.
Так вот оно что. А как же могло быть иначе? Чувствовалось, что надо сказать на это что-то значительное, но она наивно пролепетала, глядя и не глядя на него:
— Я не знала… Тогда лучше вам уйти.
Она остановилась. Он молчал. Она тихо добавила:
— Потому что он может сейчас вернуться.
Губы его исказились неестественно презрительной гримасой. Она заметила, как челюсти его злобно шевельнулись, прежде, чем он начал говорить.
— Почему же вы думаете, что я должен отсюда бежать? — И с нарастающим озлоблением он продолжал: — За кого вы боитесь, за себя, за меня, или за него? Почему вы думаете, что я должен уступить ему это так, без борьбы? Ему! — с ненавистью выкрикнул он, готовый разразиться самыми беспощадными и крайними обвинениями.
А перед ней заметались ужасы, о которых она слышала, читала. Представлялось убийство, дуэль, все то, что связано с злыми, зверскими чувствами, и она недоумело и испуганно открытыми глазами смотрела в его угрожающе вспыхнувшие глаза.
Если бы она в эту минуту встретила в его взгляде что-нибудь, кроме ревнивой злобы, так бы и осталась в этом состоянии, но тут в ней вдруг вспыхнула гордость.
Все еще тихо, но уже с обидой в тоне, она сказала:
— Что значит уступить? Кого уступить?
— Вас! — резко ответил он.
Она покачала головой и с расстановкой медленно выговорила:
— Я не вещь, чтобы меня можно было уступать и не уступать.
— Да, но он смотрит на вас, как на вещь. Не более, как на вещь, — повторил он с каким-то злорадным торжеством. — Так будет и с вами, — точно вонзал он в нее эти острые уколы. — Уж не думаете ли вы, что вы исключение из числа тех, кого он оставлял, запятнав и часто едва ли помня имя!
Он говорил все эти пошлые клеветнические слова, сам глубоко чувствуя их пошлость и смрад. Так мог говорить кто угодно, каждый обыватель-фарисей, и самому было почти до болезненности стыдно их; но, чем становилось стыднее, тем упорнее эти слова шли на язык и срывались предательские и невозвратимые. Сам он уже остановиться не мог, и желал, чтобы она остановила его, как тогда, в первый раз, каким-нибудь словом, но непременно кротким и добрым: напоминанием, что он не такой, что сейчас им владел какой-то дьявол, всегда сопутствующий той смуте, которую вызывает любовь, делающая ненадолго сомнительно счастливыми одних и вызывая зависть, превращая в зверей других.
Лицо его оставалось в тени, так как всей своей фигурой он заслонял свет небольшой лампочки на столе; и, может быть, потому, что лицо его оставалось в тени, и она не могла видеть его выражения, казалось, что говорит не он, не Дружинин, а какой-то другой, мрачно пророчествующий человек. На один миг оборвалась тонкая ниточка, связывающая ее с действительностью, вспомнился сон, и стало холодно и жутко. Не с этим ли пророчеством сливался ее короткий мрачный бред?
Но вот он сделал движение, осветилось его лицо, и она сказала себе: «Нет, это не то».
Дружинин стал ходить взад и вперед по комнате, умышленно держась вдали от нее, и теперь показался ей тюремщиком, стерегущим свою жертву.
А он как будто на время забыл о ней, и каждый раз, как лицо его при поворотах освещалось, она замечала презрительную, почти брезгливую гримасу, вздрагивающую в правом уголке его губ.
Презрение к себе? Да. Равно и к себе, и к тому, и даже к ней. Из-за чего? Он искоса взглянул на нее. Прежде всего бросились в глаза тяжелые бронзовые волосы и грустные, задумчивые глаза, устремленные мимо него.
Опять стало чувственно душно.
«Неужели это? И только это? — с отвращением спросил он сам себя. И сразу почувствовал какую-то непонятную тоску. — Значит, вся эта вражда, борьба, низость из-за куска человеческого мяса?»
Не может быть!
Он вздрогнул и, круто повернувшись, остановился у стола, прямо устремив взгляд на свет лампы.
Когда он отвернулся, она обратила в его сторону свои глаза. Изысканным черным силуэтом вычерчивалась вся его небольшая, стройная фигура. Белый воротник тонкой полоской определял напряженную от склонившейся головы шею. И в этом упорном наклоне головы, в сильных тонких линиях шеи было какое-то особенное выражение, почти доступное проникновению мысли.