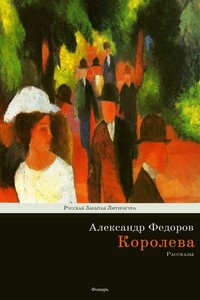Стрельников подошел и сечкой на своей сильной руке стад разбивать лед. Она как будто забыла, что только что умоляла его уйти и машинально подставляла горлышко пузыря, куда он осторожно опускал кусочки льда.
— Довольно. А то будет давить на головку.
Она произнесла эти слова так кротко и как будто спокойно, что у него горестная спазма схватила горло, а когда она стала растерянно искать пробку от пузыря, он отыскал ее и заботливо навертел на пузырь.
Когда она поднялась с пола и направилась к кровати, он вышел в мастерскую и стал ходить из угла в угол взад и вперед, опустошенный, почти не понимая, что произошло и что происходит. Была настоятельная потребность что-то установить и выяснить, но все в нем смешалось: ее обвинения, страдальческие стоны, его собственный злые слова и мысли, и среди них одна, дразнящая и жестокая, которой было страшно и стыдно, но к которой он возвращался, как к единственному выходу.
Чтобы яснее дать себе во всем отчет, он встал у окна и прижал пальцы к вискам. Но прежде, чем успел сосредоточиться, в глаза бросились две тени на ярко освещенной улице справа. Он встрепенулся и припал к окну, стараясь разглядеть. Но разглядеть было трудно: окно высоко. Он быстро подвинулся к самому последнему звену окна налево. Но и под таким углом нельзя было ясно рассмотреть.
И вот они исчезли.
У него по-особенному беспокойно билось сердце. Они это или не они? Нет, не они, — хотелось сказать ему. — Не они.
Но тут он одумался. В сущности говоря, что могло его беспокоить? Попытался обратить свои мысли на то страшное, что происходит рядом, даже отошел от окна и подошел к двери, из-за которой временами доносился слабый стон, похожий на мяуканье котенка, но это не отвлекало, и мысли шли в прежнем направлении.
То, что представлялось неважным раньше, успело вырасти за эти часы. Но и эти мысли и сознание значительности их не могли утвердить на себе его внимания, чувствовалась физическая и моральная усталость и как будто даже несколько лихорадило.
Его потянуло к дивану, хотелось закрыть глаза и отдаться полному покою, но он боялся уснуть: уснуть в такую минуту, это было бы почти жестокостью.
Лишь только тело его растянулось для отдыха, стало ясно, что отдыха быть не может: по-прежнему доносился стон, похожий на мяуканье, но не это мешало: откуда-то как будто сыпался тупой, однозвучный, утомительный шум, который, точно песок, проникал сквозь слух и нагружал все тело, отчего оно как будто раздавалось и рыхлело, и был неприятен, томителен приспущенный для чего-то огонь лампы.
Он закрыл глаза, только чтобы избавиться от этого огня, но даже и сквозь сомкнутые веки ощущал облегавший их свет.
Вдруг, большая тяжелая тень заслонила его; теперь можно было бы заснуть, если бы эта тень не заключала в себе разрешение какого-то страшного вопроса.
Пришлось сделать усилие над собой, чтобы открыть глаза.
Доктор как-то особенно заботливо сказал:
— Заснул, приятель.
Стало совестно. Он вскочил и преувеличенно бодро ответил:
— Ничего подобного.
— Лежи, ты мне не нужен. Справимся и без тебя.
Усиленно стряхивая с себя осадок сна, Стрельников пошел за доктором, и машинально и тупо следил, как тот вынул блестящий трехгранный металлический инструмент, перевернул ребенка на животик при нестерпимом крике его.
Мать с страшной бледностью в лице, стиснув зубы, точно боль была ее, помогала доктору. Доктор нащупал на детском тельце необходимую точку и, твердой рукой вонзив блестящее орудие, медленно вынул стержень: из пустоты стальной оболочки стал выползать гной.
Это мучительство делалось не для того, чтобы спасти ребенка, на это надежд почти не было, а лишь для того, чтобы облегчить его дальнейшее невыразимое страдание.
Стрельникову лишь померещилось, что он видел Ларочку с Дружининым; они шли совсем другой дорогой. И во время пути ни разу не было упомянуто имя Стрельникова.
Дружинин с внимательным и серьезным участием расспрашивал девушку о ее семье, о прошлом и о том, как она живет теперь и как ей представляется будущее.
Было что-то заботливое, деликатное и вместе с тем серьезно значительное в этих расспросах. Она не могла не сознаться себе, что Стрельников никогда так пристально не интересовался ее существованием.
Она как-то притихла, отвечая ему покорно и искренно. Он уже не казался ей ни злым, ни холодным. Наоборот, временами она чувствовала, что от него как будто проникает ей в душу какой-то новый свет. С Стрельниковым ей, как с сверстником, хотелось дурачиться, смеяться; здесь — она была несколько подавлена силой которую инстинктивно чувствовала. Но отвечая порой как ученица учителю, она в то же время начинала сознавать в себе что-то настоящее, приближение к ответственности за свою жизнь, за свою душу перед кем-то неназываемым, но властным.
А между тем беседа их была проста, и в тоне ее спутника не было ничего явно поучительного или вразумляющего.
«Все это потому так выходит, что он писатель», — думала она и не посмела бы не только солгать перед ним, но и притвориться, или утаить что-нибудь. И конечно, только потому он ею так и интересовался и так ее расспрашивал, что он был писатель. Напрасно она там, у моря, так самонадеянно объяснила себе его недоразумение со Стрельниковым.