Ecce homo - [38]
Витторио, словно прочитав мои мысли, стрельнул надменным взором, потянулся, будто барс, проговорил своё неизменное‑Corpo di Bacco! и, стараясь не ступать на бабочек, двинулся в ту сторону, где, подчас заглушая шелест коричневых крыльев да хрустящий процесс насыщения саранчи, рокотали моторы бронемашин.
Так произошла моя встреча с Африкой, и я полюбил этот континент сильнее, чем светлоглазую Эдду: белый тонконогий верблюд уничтожал в своём мощном неприхотливом аллюре змеящийся узор танковых гусениц, так схожий со следами громадных Диодоровых удавов; отряд аравийских гуигнгнмов бился на барханах с дюжиной человекообразных, побеждал и уносился прочь; в том же оазисе я свёл знакомство с парой мулаток. Они обучили меня пленительным, неизвестным в Европе играм, и всю ночь напролёт мы резвились на таинственно урчащей поляне. Рядом рыдали пьяные от тоски гиены, желтобрюхий паук–умелец развалился в центре своего гамака, дрожащего при свете персидской лампы, а над нами бесновался сверкающий недосягаемый хаос, временами подчиняясь (но ещё так редко!) с детства знакомому мне ритму пляски: Там! Та–ра–ра-там! Там! Та–ра–ра-там! Там! Та–ра–ра-там!
Смеясь, я ласкал клитор сиротинушки-Зулейки да словно хмельной, повторяя одно и то же, нашёптывал в её мускусное ушко своё сокровенное: «Bisogna avere un caos dentro di sè, per generare una stella danzante», — она хохотала, показывая небесам браслет из острейших кораллов, а с моих пальцев капала, капала и капала мирра, будто в ночную пору я взламывал палестинский замо́к.
Звон колодезного ведра пронизывал африканское утро; удушенная Зулейкой змея, горбясь, точно пышнобородый очандаленный философ в клетчатых панталонах, подставляла заре свою раскрытую пасть с боксёрской челюстью; вторая девица (чьё имя я так никогда и не узнал) позабыла на дароносице коврового узора мумию браунинга, купленного ещё в прошлом веке её дедом–разбойником у заезжего француза; жеребец, давно разоривший вороным хвостом пауково жилище, изящно вытанцовывал у пальмы да люто поглядывал на меня исступлёнными глазами; стайки тщедушных мальчишек плавно скользили меж лохматых стволов деревьев, временами прыская взрывами тарабарской речи, и мне мгновенно приходила на ум нашумевшая в Париже книжка — Жид среди негров, или нечто подобное.
Медовый запах солнца–андрогина щекотал мне ноздри; само светило наполовину вскарабкалось на бархан и протянуло к оазису восемь золотисто–смарагдовых щупалец; веки невольно смежились; Эфиопия окрасилась багрянцем; тыльная сторона ладони заскользила по траве, которая тотчас восторженно валилась на спину, подставляя для ласки свой нежный изумрудный живот; — «una stella danzante», прошептали губы и улыбнулись.
В атаку мы шли ночью. Сначала по–королевски рявкало исполинское жерло мортиры, а затем, короткими перебежками, стреляя поочерёдно, мы подступали к форту. На стене пятьдесят шестой крепости я не увернулся от палаша; лезвие–невидимка полоснуло меня по лицу; парабеллум в неожиданно онемевшей руке плеснул пламенем, и, вцепившись в кадык тотчас взвывшего негра, я глотнул крови (безошибочно определил сорт с годом урожая), покатился в чавкающую тьму и вдруг очутился в стилизованном под рай соседском саду. Яблони были точно из папье–маше. Неумело вырезанный из кальки зелёный аргус вяло перебирал крыльями в струях бутафорского норд–оста. Мой слух ещё был полон влажными отголосками пиршества бар–мицвы.
Внезапно появилась она, измождённая, будто неприкаянная Герда — в косынке, чёрной рубашке, юбке до колен и с целым воинством одуванчиковых парашютистов на стоптанных башмаках. Ещё мгновение — и моя голова оказалась у неё на животе. Тонко запахло дымом. Мы стояли, раскачиваясь, медленно, но неумолимо абсорбируя друг друга: я — юный, но уже совершеннолетний Мелех Царфати и взрослая Эдда Муссолини. Из её чрева (куда я уже проник на добрую треть) полилась чу́дная сказка (Труд, Христ и целое сонмище неистовых девственниц — все были там!), и, убаюканный этой волшебной мелодией, я наконец–то впал в забытьё.
Батальонный врач возвёл госпитальные шатры на исполинском плато краснозёма. Там, защищённый от ветра неспокойными парусиновыми стенами, изучая причудливые метаморфозы гигантского топаза в потолке, к вечеру превращавшегося в рубин, а затем постепенно становившегося сапфиром, я мучительно выздоравливал. Левый глаз удалось спасти. Швы стянули кожу ото лба до нижней челюсти, и чудовищный алый шрам пересёк моё лицо.
Витторио навещал меня, издевался над моей потерей клыка, утверждая (и совершенно ложно!), что я больше не хищник; балагурил с сестрой родом из Катании, которая с завидным постоянством, дважды в неделю, выбривала лобок и подмышки; да глумился над тем, как, гримасничая и придерживая пальцами губу, я поглощал мелко нарезанное на дольки–кораблики розовое яблоко.
И сейчас, когда я стою здесь в чёрной рубахе с пропахшим лавандой орлом на рукаве — шрам, давно побелевший, с засохшими краями, виден издалека всякому: от него бровь в вечном приступе изумления изогнулась метафизической ламбдой; на щеке — стезя, как та, что однажды мой народ проложил поперёк морского дна; а рот мой смеётся — беспрестанно, блаженно–легкокрыло смеюсь я над вами, псориазные ревуны–Вар–раваны, берущие Зимний с Бастилией; над вами, фригидные самки из Сарматии и Галлии, визгливо и неправдоподобно имитирующие оргазм под вялым нажимом фимозного демократического фаллоса; и над вами, мартышкорожие ревнители равенства, принимающие ванну раз в год, — Там! Та–ра–ра-там! — отпирайте ворота, я — ваша Шарлота Кордэ!

Анатолий Ливри, философ, эллинист, поэт, прозаик, бывший преподаватель Сорбонны, ныне славист Университета Ниццы-SophiaAntipolis, автор «Набокова Ницшеанца» (русский вариант «Алетейя» Ст.-Петербург, 2005; французский « Hermann »,Paris, 2010) и «Физиологии Сверхчеловека» («Алетейя» 2011), лауреат литературной премии им. Марка Алданова 2010.
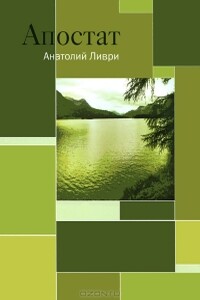
Анатолий Ливри, писатель, эллинист, философ, преподаватель университета Ниццы — Sophia Antipolis, автор восьми книг, опубликованных в России и в Париже. Его философские работы получили признание немецкой «Ассоциации Фридрих Ницше» и неоднократно публиковались Гумбольдским Университетом. В России Анатолий Ливри получил две международные премии: «Серебряная Литера» и «Эврика!» за монографию «Набоков ницшеанец» («Алетейя», Петербург, 2005), опубликованную по-французски в 2010 парижским издательством «Hermann», а сейчас готовящуюся к публикации на немецком языке.

По некоторым отзывам, текст обладает медитативным, «замедляющим» воздействием и может заменить йога-нидру. На работе читать с осторожностью!

Карой Пап (1897–1945?), единственный венгерский писателей еврейского происхождения, который приобрел известность между двумя мировыми войнами, посвятил основную часть своего творчества проблемам еврейства. Роман «Азарел», самая большая удача писателя, — это трагическая история еврейского ребенка, рассказанная от его имени. Младенцем отданный фанатически религиозному деду, он затем возвращается во внешне благополучную семью отца, местного раввина, где терзается недостатком любви, внимания, нежности и оказывается на грани тяжелого душевного заболевания…

Вы служили в армии? А зря. Советский Союз, Одесский военный округ, стройбат. Стройбат в середине 80-х, когда студенты были смешаны с ранее судимыми в одной кастрюле, где кипели интриги и противоречия, где страшное оттенялось смешным, а тоска — удачей. Это не сборник баек и анекдотов. Описанное не выдумка, при всей невероятности многих событий в действительности всё так и было. Действие не ограничивается армейскими годами, книга полна зарисовок времени, когда молодость совпала с закатом эпохи. Содержит нецензурную брань.

В «Рассказах с того света» (1995) американской писательницы Эстер М. Бронер сталкиваются взгляды разных поколений — дочери, современной интеллектуалки, и матери, бежавшей от погромов из России в Америку, которым трудно понять друг друга. После смерти матери дочь держит траур, ведет уже мысленные разговоры с матерью, и к концу траура ей со щемящим чувством невозвратной потери удается лучше понять мать и ее поколение.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.