Дым отечества - [6]
В домашней обстановке Черномордик не всегда отдыхал душевно. Собственно, ни с матерью, ни с братьями-юнкерами он не имел ничего общего, а подчас даже и тяготился их средой.
В городе, вот уже года три существовал кружок молодёжи, к которому примыкал Черномордик, ещё будучи гимназистом, и с которым не порывал связи и в период своего «копчения», как выражался он в палате.
К кружку молодёжи примыкали гимназисты, гимназистки и даже епархиалки. Заметными членами кружка являлись бывшие студенты, волею судеб вынужденные прозябать за пределами университетского города.
Появлялись в кружке ещё и люди приезжие из группы «Безымянной Руси».
К этим людям кружок молодых людей относился как к учителям жизни, и с каждым их появлением союз молодых людей увеличивался численностью, креп и заводил связи на стороне.
Осенью памятного для России года, когда проснулось всё общество, кружок молодёжи явился в городе самым чувствительным аппаратом для восприятия новой жизни.
Освободительные лозунги из центров доносились на окраины и здесь попадали на благоприятную почву.
В период петиций и банкетов, в глухом городке так же писались петиции и так же как в других местах устраивались банкеты.
Телеграфные проволоки принесли весть о телеграфной забастовке, и первыми в городе забастовали почтово-телеграфные служащие, за ними потянулись приказчики и закрыли магазины.
Забастовали земские служащие, началось брожение среди учителей… Но их опередили забастовавшие гимназисты и гимназистки.
И Черномордик в числе других принимал самое горячее участие в общем движении.
Свою работу перенёс он и в палату, но на первых же шагах он разочаровался.
Из всего численного состава губернских присутственных мест навстречу предложению Черномордика пошли только три чиновника из университетских, один ветеринарный врач и несколько наборщиков из губернской типографии, а из угловой комнаты подходящим человеком Черномордик считал только одного Ватрушкина.
— Николай Николаевич, я давно видел несовершенство жизни, — говорил Ватрушкин Черномордику, — но только, что же я мог поделать?
— А надо бы вам было работать над самообразованием. Недурно бы было и примкнуть к какой-нибудь организации.
— В сельские учителя я хотел, да экзамен не выдержал, — печально говорил Ватрушкин.
— Давайте заниматься, я вас и в учителя подготовлю, — уверенным тоном говорил Черномордик, и Ватрушкин не сомневался в словах юного писца из бывших гимназистов.
Когда Черномордик рассказал Ватрушкину о пользе союза чиновников, последний патетически восклицал:
— Вот, вот!.. И я тоже давно думал об эксплуатации чиновников начальством, да только боялся говорить об этом… А вы вон как смело говорили… Брызгин, этот дьявол порядочный. Доносчик он, обо всём доносит начальству.
Собственно, Ватрушкину хотелось рассказать Черномордику о том, что он знал, а он знал, что в течение двух последних недель Брызгин несколько раз побывал в кабинете его превосходительства, и последнему уже всё известно о Черномордике.
VI
Ватрушкин не ошибся: через два дня Черномордик был вызван в кабинет управляющего палатою.
Генерал принял родственника своей знакомой строго и сухо, стула ему не предложил и, нахмурившись, начал:
— Молодой человек! Я пригласил вас, чтобы сказать вам, что у меня здесь палата, присутственное место, а не что-то другое, где можно… можно непочтительно выражаться о правительстве, читать преступные газеты и сбивать чиновников на устройство каких-то там противозаконных сообществ и союзов…
Генерал произнёс всё это, как по заученному.
— Ваше превосходительство, — начал было Черномордик, и по губам его скользнула ироническая улыбка.
— Извольте молчать, когда говорит начальник! — грозно окрикнул Черномордика генерал. — До моего слуха дошло, что вы непочтительно отзываетесь о правительстве! Это в присутственном месте не допускается… да и вообще, нигде не допускаются такие речи, — поправился генерал. — За это господ социалистов отправляют в места отдалённые. Потрудитесь рассказать мне всё, что произошло.
Черномордик подробно рассказал историю столкновения с Брызгиным.
По мере его рассказа лицо генерала из тёмно-багрового преображалось и делалось светлее.
Когда Черномордик кончил свою исповедь, генерал проговорил:
— Относительно слов «дым отечества» я ничего не буду говорить, в этих словах ничего нет предосудительного. Это — поэтическая вольность поэта, и, конечно, Брызгин может этого и не знать… Что же касается того, что правительство будто бы эксплуатирует чиновников, то это уже, как хотите, дерзость и большая дерзость! Правительство никого не эксплуатирует, а достойных чиновников награждает денежными пособиями и орденами… Да и, вообще, выражаться так о правительстве преступно! Понимаете — преступно!..
Лицо генерала вновь побагровело.
— Кроме того, откуда вы взяли, — начал он после паузы, — что отечество и правительство не одно и то же?.. А?..
— Да как же, ваше превосходительство! Отечество — это народ во всей совокупности, а правительство — только часть народа, так сказать, центральное его управление.
Начальник даже побледнел при этих словах.
— Как, правительство — часть народа?.. Что вы говорите… м… молокосос!.. — вскрикнул генерал, но тотчас же сообразил, что зашёл далеко, обращаясь так со своим очень отдалённым родственником.

Семья Брусяниных. Фото 27 октября 1903 г.Брусянин, Василий Васильевич — рус. писатель. Род. в купеческой семье. В 1903-05 — ред. «Русской газеты». Участвовал в Революции 1905-07, жил в эмиграции (1908-13). Печатался с сер. 90-х гг. Автор сб-ков очерковых рассказов: «Ни живые — ни мертвые» (1904), «Час смертный. Рассказы о голодных людях» (1912), «В рабочих кварталах» (1915), «В борьбе за труд» (1918); романов «Молодежь» (1911), «Темный лик» (1916) и др., историч. романа «Трагедия Михайловского замка» (т. 1–2, 1914-15).

Семья Брусяниных. Фото 27 октября 1903 г.Брусянин, Василий Васильевич — рус. писатель. Род. в купеческой семье. В 1903-05 — ред. «Русской газеты». Участвовал в Революции 1905-07, жил в эмиграции (1908-13). Печатался с сер. 90-х гг. Автор сб-ков очерковых рассказов: «Ни живые — ни мертвые» (1904), «Час смертный. Рассказы о голодных людях» (1912), «В рабочих кварталах» (1915), «В борьбе за труд» (1918); романов «Молодежь» (1911), «Темный лик» (1916) и др., историч. романа «Трагедия Михайловского замка» (т. 1–2, 1914-15).

Семья Брусяниных. Фото 27 октября 1903 г.Брусянин, Василий Васильевич — рус. писатель. Род. в купеческой семье. В 1903-05 — ред. «Русской газеты». Участвовал в Революции 1905-07, жил в эмиграции (1908-13). Печатался с сер. 90-х гг. Автор сб-ков очерковых рассказов: «Ни живые — ни мертвые» (1904), «Час смертный. Рассказы о голодных людях» (1912), «В рабочих кварталах» (1915), «В борьбе за труд» (1918); романов «Молодежь» (1911), «Темный лик» (1916) и др., историч. романа «Трагедия Михайловского замка» (т. 1–2, 1914-15).

Семья Брусяниных. Фото 27 октября 1903 г.Брусянин, Василий Васильевич — рус. писатель. Род. в купеческой семье. В 1903-05 — ред. «Русской газеты». Участвовал в Революции 1905-07, жил в эмиграции (1908-13). Печатался с сер. 90-х гг. Автор сб-ков очерковых рассказов: «Ни живые — ни мертвые» (1904), «Час смертный. Рассказы о голодных людях» (1912), «В рабочих кварталах» (1915), «В борьбе за труд» (1918); романов «Молодежь» (1911), «Темный лик» (1916) и др., историч. романа «Трагедия Михайловского замка» (т. 1–2, 1914-15).

Семья Брусяниных. Фото 27 октября 1903 г.Брусянин, Василий Васильевич — рус. писатель. Род. в купеческой семье. В 1903-05 — ред. «Русской газеты». Участвовал в Революции 1905-07, жил в эмиграции (1908-13). Печатался с сер. 90-х гг. Автор сб-ков очерковых рассказов: «Ни живые — ни мертвые» (1904), «Час смертный. Рассказы о голодных людях» (1912), «В рабочих кварталах» (1915), «В борьбе за труд» (1918); романов «Молодежь» (1911), «Темный лик» (1916) и др., историч. романа «Трагедия Михайловского замка» (т. 1–2, 1914-15).

Рассказы и статьи, собранные в книжке «Сказочные были», все уже были напечатаны в разных периодических изданиях последних пяти лет и воспроизводятся здесь без перемены или с самыми незначительными редакционными изменениями.Относительно серии статей «Старое в новом», печатавшейся ранее в «С.-Петербургских ведомостях» (за исключением статьи «Вербы на Западе», помещённой в «Новом времени»), я должен предупредить, что очерки эти — компилятивного характера и представляют собою подготовительный материал к книге «Призраки язычества», о которой я упоминал в предисловии к своей «Святочной книжке» на 1902 год.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.Книга «За рубежом» возникла в результате заграничной поездки Салтыкова летом-осенью 1880 г. Она и написана в форме путевых очерков или дневника путешествий.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В шестой том собрания сочинений вошли прозаические произведения 1916–1919., пьесы и статьи.Комментарии Ю. Чирвы и В. Чувакова.http://ruslit.traumlibrary.net.
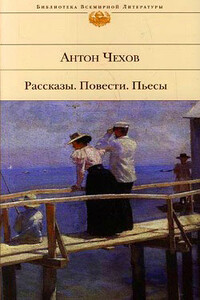
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

- писатель. Род. в 1867 г. Поместил ряд рассказов и очерков в «Жизни», «Новом Слове», «Журнале для всех», «Сев. Вестн.» и др. Отд. напеч. (под псевд. В. Брус) книжку «Поэты-крестьяне» (СПб., 1899). Автор ряда повестей и романов. Умер от сыпного тифа в гражданскую войну.

- писатель. Род. в 1867 г. Поместил ряд рассказов и очерков в «Жизни», «Новом Слове», «Журнале для всех», «Сев. Вестн.» и др. Отд. напеч. (под псевд. В. Брус) книжку «Поэты-крестьяне» (СПб., 1899). Автор ряда повестей и романов. Умер от сыпного тифа в гражданскую войну.

- писатель. Род. в 1867 г. Поместил ряд рассказов и очерков в «Жизни», «Новом Слове», «Журнале для всех», «Сев. Вестн.» и др. Отд. напеч. (под псевд. В. Брус) книжку «Поэты-крестьяне» (СПб., 1899). Автор ряда повестей и романов. Умер от сыпного тифа в гражданскую войну.

- писатель. Род. в 1867 г. Поместил ряд рассказов и очерков в «Жизни», «Новом Слове», «Журнале для всех», «Сев. Вестн.» и др. Отд. напеч. (под псевд. В. Брус) книжку «Поэты-крестьяне» (СПб., 1899). Автор ряда повестей и романов. Умер от сыпного тифа в гражданскую войну.
