Двенадцатая интернациональная - [233]
— Как же. Прекрасно помню такой разговор, а вернее, спор, — послышался в трубке уверенный и веселый голос Хаджи. — Хочешь знать, именно эта не очень зрелая мысль и послужила отправным пунктом для вашей новогодней операции, которую разрабатывал и проводил Фриц.
Подтверждение Хаджи рассеяло мои колебания. Поскольку описанный случай имел место, меня не должно касаться, соответствует ли это общим представлениям о Гореве или его служебной характеристике. Мой долг возможно более последовательно и как можно более правдиво излагать запечатлевшиеся в памяти события, психологическое же их согласование, их историческое осмысление предоставляются читателю.
Незадолго перед католическим рождеством Лукач обзавелся переводчиком — барселонским строительным рабочим из венгерских политэмигрантов. Фамилия его была Крайкович. Прожив несколько лет в Барселоне, он бегло говорил по-испански и по-итальянски, а так как ранее помыкался по Франции, то и по-французски. Крайкович был венгерским коммунистом, однако в Испании вступил в анархистский профсоюз. Но когда я возмутился такой беспринципностью, Крайкович, помаргивая белесыми ресницами, возразил, что на стройках иначе нельзя: попробуй не вступи в СеНеТе — на тебя или полная раствора бадья с лесов перекувырнется, или кирпич в башку угодит.
Светлый шатен с серыми, навыкате глазами, Крайкович был демонстративным антиподом любому встречному испанцу, но при этом единственный из нас, не считая, понятно, Херасси и Прадоса да еще маленького Фернандо, хорошо знал обычаи страны, понимал психологию ее народа и в этом смысле стал для Лукача незаменим.
Несмотря на то что Крайкович повоевал — сначала в каталонской дивизии Карла Маркса на Арагонском фронте, а затем в батальоне Эдгара Андре, — в этом аккуратно носившем форму кряжистом краснолицем бойце с крохотной кобурой на поясе проступало нечто неискоренимо штатское, этакий себе на уме мужичок. В общении с комбригом, он держался почтительно, но не тянулся и больше походил на исправного фермера, беседующего с управляющим поместьем, чем на солдата перед генералом. Лукач как-то сказал, что Крайкович, несмотря на странствия по заграницам и длительный рабочий стаж, остался типичнейшим венгерским крестьянином. Плохо себе представляя, чем, собственно, кроме фольклорных признаков, венгерский крестьянин отличается от всякого другого, я принял слова комбрига на веру, но при виде иногда посещавшей неподвижную физиономию Крайковича хитрой ухмылки мне начинало казаться, что если хорошенько его откормить, то и светлая масть не помешает ему по всем остальным статьям сойти за Санчо Пансу. Пока же недокормленный до художественного образа Крайкович прочно занял в машине мое место справа от Луиджи, а я отныне на правах адъютанта восседал рядом с комбригом.
Во время длительных поездок Лукач часто вступал в продолжительные беседы со своим переводчиком, но мадьярский язык, в котором обязательно ударение на первом слоге, был до того не схож ни с каким из европейских, так дремуче непонятен, что однажды, соскучившись, я допустил вольность и в паузе задал вопрос комбригу, в самом ли деле венгры, говоря по-своему, понимают друг друга или только мистифицируют посторонних. Лукач улыбнулся, извинился за невнимательность ко мне, но прибавил, что обижаться мне все-таки не следует. За двадцать лет оторванности от Венгрии его язык не мог не выцвести, не обеднеть без практики, а даже самое частое общение с другими проживающими в СССР мадьярами заметных результатов не дает: за многие годы варения в собственном соку речь их тоже вылиняла. Разговоры же с Крайковичем, сравнительно недавно покинувшим отчий край, помогают восстановить словарь, обогащают его народными речениями и оборотами, как бы спрыскивают если не омертвевший, то коснеющий во рту родной язык живою водою…
Почти одновременно с Крайковичем в штабе бригады на должности водителя шестиместной машины Фрица объявился все такой же изможденный Семен Чебан. По ходатайству Лукача жизнерадостный Тимар уступил бывшего моего респонсабля в обмен на краснощекого молодого мадридца, который до сих пор возил нашего советника, но с которым тот мог объясняться лишь как в пантомиме. И у меня, и у Семена времени было в обрез, во всяком случае на сепаратные собеседования его не хватало, случалось, что целую неделю мы ограничивались беглым приветствием при встрече, но по крайней мере я теперь знал, что этот огнеупорный, но внутренне нежный человек — здесь, совсем близко. Во всяком случае, мне предоставлялась порой возможность с чувством, близким к умилению, полюбоваться на каменный профиль Семена, когда он подавал черную карету Фрица, до мрачности серьезный, словно это была погребальная колесница.
Примерно тогда же оперативный отдел пополнился переведенным из батальона Гарибальди чуть ли не шестидесятилетним капитаном Галлеани. Стесняясь гонять его по поручениям, Белов тактично приспособил высокорослого патриарха, с бородкой клинышком, к роли штабного виночерпия и хлебодара, к чему у доброго старика явно имелось душевное предрасположение. И уже на третьи сутки пребывания среди нас Галлеани, похвастав сногсшибательной американской авторучкой, прикинул на бумажке какие-то цифры и объявил, что на одном интендантском пайке съедобного меню не получится, а потому нам всем надлежит вносить на улучшение офицерского стола по две-три песеты в день. С той поры мы зажили. Беллини, встретивший поставленного над ним Галлеани враждебной иронией, постепенно смирился или притерпелся к его брюзжанию, отругиваясь, правда, по-итальянски себе под громадный нос на каждое слово. Зато повара, распознав в Галлеани искушенного гурмана, относились к нему, как и все виртуозы к тонким ценителям, почти подобострастно. Поваров у нас к этому времени было уже двое: к ранее по милости Галло заведшемуся итальянцу из парижского ресторана недавно — в знак внимания к национальной принадлежности командира бригады — прибавился еще и венгр, как и его итальянский коллега тоже прошедший парижскую выучку, тоже рослый, полный и не менее тихий. В одинаковых фартуках, с шумовками в руках, они походили на приставленных к плите парных часовых и различались лишь тем, что итальянец был лыс: прилизанные смоляные пряди начинались у него повыше лба и за висками, откуда, понемногу густея и завиваясь, спускались на шею; венгр же был плешив, и редкие каштановые волосы окружали голое темя нимбом, как на изображениях апостола Павла. Кроме разных шевелюр у наших поваров были и разные кулинарные пристрастия, в основном национального происхождения. В результате устраивавшую большинство французскую кухню постоянно оттесняли то ризотто с шафраном или родственные сибирским пельменям равиоли, то вдруг прожигающий внутренности паприкаш, приводивший не столько даже Лукача, отвыкшего от него, сколько Белова в форменный гастрономический энтузиазм.
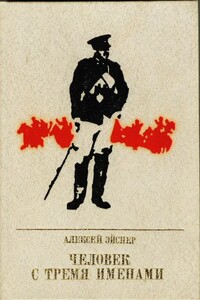
Герой повести «Человек с тремя именами» — Матэ Залка, революционер, известный венгерский писатель-интернационалист, участник гражданской войны в России и а Испании. Автор этой книги Алексей Владимирович Эйснер (1905—1984 гг.) во время войны испанского народа с фашизмом был адъютантом Матэ Залки — легендарного генерала Лукача. Его повесть — первая в серии «Пламенные революционеры», написанная очевидцем изображаемых событий. А. В. Эйснер — один из авторов в сборниках «Михаил Кольцов, каким он был», «Матэ Залка — писатель, генерал, человек», «Воспоминания об Илье Оренбурге».

В данную подборку вошли избранные стихи и проза (в основном эмигрантского периода) Алексея Эйснера (1905-1984) – поэта, эмигранта «первой волны», позже вернувшегося в СССР, никогда не издавшего поэтической книги, друга Цветаевой и Эренбурга, участника Гражданской войны в Испании, позже прошедшего суровую школу сталинских лагерей. В основе данной подборки тексты из: Поэты пражского «Скита». Стихотворные произведения. М., 2005. С. 271-296. Поэты пражского «Скита». Проза. Дневники. Письма. Воспоминания. М., 2007. С. 18-35, 246-260.Стихотворений, найденные в Сети.

Рассказ о жизни и делах молодежи Русского Зарубежья в Европе в годы Второй мировой войны, а также накануне войны и после нее: личные воспоминания, подкрепленные множеством документальных ссылок. Книга интересна историкам молодежных движений, особенно русского скаутизма-разведчества и Народно-Трудового Союза, историкам Русского Зарубежья, историкам Второй мировой войны, а также широкому кругу читателей, желающих узнать, чем жила русская молодежь по другую сторону фронта войны 1941-1945 гг. Издано при участии Posev-Frankfurt/Main.
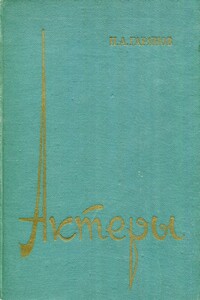
ОТ АВТОРА Мои дорогие читатели, особенно театральная молодежь! Эта книга о безымянных тружениках русской сцены, русского театра, о которых история не сохранила ни статей, ни исследований, ни мемуаров. А разве сражения выигрываются только генералами. Простые люди, скромные солдаты от театра, подготовили и осуществили величайший триумф русского театра. Нет, не напрасен был их труд, небесследно прошла их жизнь. Не должны быть забыты их образы, их имена. В темном царстве губернских и уездных городов дореволюционной России они несли народу свет правды, свет надежды.

В истории русской и мировой культуры есть период, длившийся более тридцати лет, который принято называть «эпохой Дягилева». Такого признания наш соотечественник удостоился за беззаветное служение искусству. Сергей Павлович Дягилев (1872–1929) был одним из самых ярких и влиятельных деятелей русского Серебряного века — редактором журнала «Мир Искусства», организатором многочисленных художественных выставок в России и Западной Европе, в том числе грандиозной Таврической выставки русских портретов в Санкт-Петербурге (1905) и Выставки русского искусства в Париже (1906), организатором Русских сезонов за границей и основателем легендарной труппы «Русские балеты».

Более тридцати лет Елена Макарова рассказывает об истории гетто Терезин и курирует международные выставки, посвященные этой теме. На ее счету четырехтомное историческое исследование «Крепость над бездной», а также роман «Фридл» о судьбе художницы и педагога Фридл Дикер-Брандейс (1898–1944). Документальный роман «Путеводитель потерянных» органично продолжает эту многолетнюю работу. Основываясь на диалогах с бывшими узниками гетто и лагерей смерти, Макарова создает широкое историческое полотно жизни людей, которым заново приходилось учиться любить, доверять людям, думать, работать.

В ряду величайших сражений, в которых участвовала и победила наша страна, особое место занимает Сталинградская битва — коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Среди литературы, посвященной этой великой победе, выделяются воспоминания ее участников — от маршалов и генералов до солдат. В этих мемуарах есть лишь один недостаток — авторы почти ничего не пишут о себе. Вы не найдете у них слов и оценок того, каков был их личный вклад в победу над врагом, какого колоссального напряжения и сил стоила им война.

Франсиско Гойя-и-Лусьентес (1746–1828) — художник, чье имя неотделимо от бурной эпохи революционных потрясений, от надежд и разочарований его современников. Его биография, написанная известным искусствоведом Александром Якимовичем, включает в себя анекдоты, интермедии, научные гипотезы, субъективные догадки и другие попытки приблизиться к волнующим, пугающим и удивительным смыслам картин великого мастера живописи и графики. Читатель встретит здесь близких друзей Гойи, его единомышленников, антагонистов, почитателей и соперников.