Двадцать два дня или половина жизни - [45]
«Да, конечно, „субъективно“, но не до такой же степени субъективно».
Заметил ли кто-нибудь еще, что люди нетерпимые очень любят похабные истории?
Дискуссия на семинаре о возможности поэтического перевода с языков, которыми переводчик совсем не владеет или владеет в очень малой степени. Бесцельно пытаться внушить венгру, что можно вообще отважиться на такое предприятие. Но именно это дает возможность постоянной коллективной работы, ибо перевод стихотворения связан не с двумя, а с тремя языками: языком оригинала, языком воспринимающим и универсальным языком поэзии. Венгерское стихотворение — это нечто не только «венгерское», оно венгерское, и оно — стихотворение; когда венгерское переведено на немецкий, предстоит еще второй перевод внутри немецкого языка, и, если этот Перевод пытается сделать переводчик, который не владеет языком поэзии, тогда, как правило, разрушается и первый перевод… И возникает какая-то разновидность пиджин[99] — нечто лирическое с чертами пиджин-немецкого…
Нет, несмотря на особенность, заключающуюся в том, что три эти языка возникают в лингвистических формах двух языков, именно здесь и открывается возможность разделения труда между переводчиком, делающим подстрочный перевод, и воссоздателем (неудачное слово, но другого я не нахожу), — разделение труда, которое иной раз, когда речь идет о языках малых народов, необходимо. Мы отважились на дерзание, и оно удалось, мы опровергли догму и практику в области поэтического перевода; мы в полном смысле этого слова поднимали целину, используя возможности издательского дела при социализме, но на все это почти не обращают внимания.
Когда современная грамматика исследует то, что она называет «правильно построенные предложения», и, чтобы определить, что же такое эти правильно построенные предложения в том или ином живом языке, ссылается на некое «компетентное в языке лицо», то она (то есть ее «компетентное в языке лицо»), как правило, выделяет из всего языкового материала нечто, «то можно было бы назвать „поэтическим языком в пределах его общих возможностей“». Это, разумеется, отнюдь не возражение против трансформационной грамматики, а термин «поэтический язык» не следует понимать в вульгарно-романтическом смысле («Прелестно», «Как поэтично», «Сердце тает», «Вот это искусство»). К lingua poetica[100] относятся и неправильные грамматические предложения, и даже совсем на первый взгляд лишенные смысла фразы вроде: «Klauke dich, Klauker» из «Симоны» Брехта[101].
В таком случае «компетентным в языках», как для исходного, так и для воспринимающего, будет автор подстрочника, а в языке воспринимающем и поэтическом им будет воссоздатель (создатель формы).
Отношения, в которые вступают эти три языка в процессе перевода, можно облечь в форму силлогизма, логического вывода по схеме DIMATIS[102].
Забавное определение: область поэтического начинается за теми пределами, в которые заключены благозвучные фразы.
Для того чтобы поменять местами два слова в том или ином предложении, может понадобиться большее усилие, чем для перевода того же самого предложения с одного языка на другой.
Карл Краус не уставал доказывать, что перестановка двух слов, замена одного прилагательного другим, близким по значению, даже изменение одной-единственной приставки или знака препинания могут превратить замечательное стихотворение в нечто аморфное (пошлое, тривиальное, мертвое, пустое), в нестихотворение («большой колокольчик» — «нежный колокольчик»; «вставайте, быстро довольные!» — «вставайте быстро, довольные»), и он прав.
Именно поэтическая форма интернациональна. Это утверждение поражает профана сильнее всего; он думает, что именно она непреодолимое препятствие для перевода на основе дословного подстрочника. Но венгерский и немецкий или албанский сонеты совпадают как раз по своей форме. Я могу не знать ни одного слова по-венгерски или по-албански, но я вижу (точнее сказать: читаю), что это сонет, а при известном упражнении я могу безошибочно определить и более сложные формы (больше всего я горжусь тем, что определил античную форму строфы, правда видоизмененную, в стихотворении Радноти, которое венгерские друзья считали написанным свободным стихом).
При этом, безусловно, необходимо знание правил ударения, произношения и подход к рифме. Сравнительная теория рифмы была бы заманчивой штудией из области психологии различных народов (национальной психологии).
В поэтическом переводе я осуществил часть своего предназначения. В литературе для детей — тоже. А третье (то, что должно было быть первым) осталось лишь попытками.
Вечером встреча с профессором Халасом и dottores Р. и К. (они шутки ради говорят по-итальянски, потому что «меньше всего» знают этот язык) в знаменитом сегедском ресторане ради знаменитой сегедской ухи, которая в отличие от обычной ухи должна быть густой. Вначале отваривают мелкую рыбешку, потом ее протирают через сито и уже в этом бульоне варят карпов.
И ты, разумеется, сразу вспоминаешь знаменитое блюдо римлян: оливка в соловье, соловей в голубе, голубь в цыпленке, цыпленок в утке, утка в зайце, заяц в каплуне, каплун в барашке, барашек в лани, лань в теленке, теленок в кабане, кабан в откормленном быке, насаженном на вертел. На стол подается только оливка, пропитанная всеми соками, — двенадцатая эссенция, — мне кажется, в этом есть что-то сугубо венгерское.
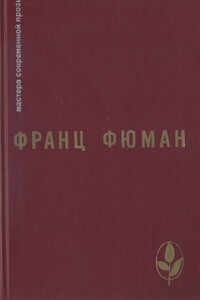
В книге широко представлено творчество Франца Фюмана, замечательного мастера прозы ГДР. Здесь собраны его лучшие произведения: рассказы на антифашистскую тему («Эдип-царь» и другие), блестящий философский роман-эссе «Двадцать два дня, или Половина жизни», парафраз античной мифологии, притчи, прослеживающие нравственные каноны человечества («Прометей», «Уста пророка» и другие) и новеллы своеобразного научно-фантастического жанра, осмысляющие «негативные ходы» человеческой цивилизации.Завершает книгу обработка нижненемецкого средневекового эпоса «Рейнеке-Лис».

Учёный Пабло изобретает Чашу, сквозь которую можно увидеть будущее. Один логик заключает с Пабло спор, что он не сделает то, что увидел в Чаше, и, таким образом изменит будущее. Но что он будет делать, если увидит в Чаше себя, спасающего младенца?© pava999.

В книгу вошли лучшие, наиболее характерные образцы новеллы ГДР 1970-х гг., отражающие тематическое и художественное многообразие этого жанра в современной литературе страны. Здесь представлены новеллы таких известных писателей, как А. Зегерс, Э. Штритматтер, Ю. Брезан, Г. Кант, М. В. Шульц, Ф. Фюман, Г. Де Бройн, а также произведения молодых талантливых прозаиков: В. Мюллера, Б. Ширмера, М. Ендришика, А. Стаховой и многих других.В новеллах освещается и недавнее прошлое и сегодняшний день социалистического строительства в ГДР, показываются разнообразные человеческие судьбы и характеры, ярко и убедительно раскрывается богатство духовного мира нового человека социалистического общества.
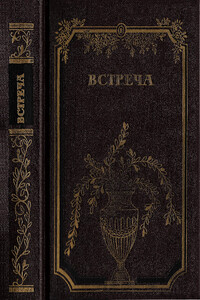
Современные прозаики ГДР — Анна Зегерс, Франц Фюман, Криста Вольф, Герхард Вольф, Гюнтер де Бройн, Петер Хакс, Эрик Нойч — в последние годы часто обращаются к эпохе «Бури и натиска» и романтизма. Сборник состоит из произведений этих авторов, рассказывающих о Гёте, Гофмане, Клейсте, Фуке и других писателях.Произведения опубликованы с любезного разрешения правообладателя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В этом сборнике 17 известных авторов ГДР, свидетелей или участников второй мировой войны, делятся своими мыслями и чувствами, которые вызвал у них долгожданный час свободы, незабываемый для каждого из них, незабываемый и по-своему особенный, ни с чем не схожий. Для героев рассказов этот час освобождения пробил в разное время: для одних в день 8 мая, для других — много дней спустя, когда они обрели себя, осознали смысл новой жизни.
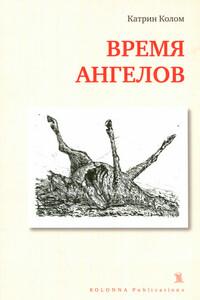
В романе "Время ангелов" (1962) не существует расстояний и границ. Горные хребты водуазского края становятся ледяными крыльями ангелов, поддерживающих скуфью-небо. Плеск волн сливается с мерным шумом их мощных крыльев. Ангелы, бросающиеся в озеро Леман, руки вперед, рот открыт от испуга, видны в лучах заката. Листья кружатся на деревенской улице не от дуновения ветра, а вокруг палочки в ангельских руках. Благоухает трава, растущая между огромными валунами. Траектории полета ос и стрекоз сопоставимы с эллипсами и кругами движения далеких планет.

Какова природа удовольствия? Стоит ли поддаваться страсти? Грешно ли наслаждаться пороком, и что есть добро, если все захватывающие и увлекательные вещи проходят по разряду зла? В исповеди «О моем падении» (1939) Марсель Жуандо размышлял о любви, которую общество считает предосудительной. Тогда он называл себя «грешником», но вскоре его взгляд на то, что приносит наслаждение, изменился. «Для меня зачастую нет разницы между людьми и деревьями. Нежнее, чем к фруктам, свисающим с ветвей, я отношусь лишь к тем, что раскачиваются над моим Желанием».

«Песчаный берег за Торресалинасом с многочисленными лодками, вытащенными на сушу, служил местом сборища для всего хуторского люда. Растянувшиеся на животе ребятишки играли в карты под тенью судов. Старики покуривали глиняные трубки привезенные из Алжира, и разговаривали о рыбной ловле или о чудных путешествиях, предпринимавшихся в прежние времена в Гибралтар или на берег Африки прежде, чем дьяволу взбрело в голову изобрести то, что называется табачною таможнею…

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

Что между ними общего? На первый взгляд ничего. Средневековую принцессу куда-то зачем-то везут, она оказывается в совсем ином мире, в Италии эпохи Возрождения и там встречается с… В середине XVIII века умница-вдова умело и со вкусом ведет дела издательского дома во французском провинциальном городке. Все у нее идет по хорошо продуманному плану и вдруг… Поляк-филолог, родившийся в Лондоне в конце XIX века, смотрит из окон своей римской квартиры на Авентинский холм и о чем-то мечтает. Потом с риском для жизни спускается с лестницы, выходит на улицу и тут… Три персонажа, три истории, три эпохи, разные страны; три стиля жизни, мыслей, чувств; три модуса повествования, свойственные этим странам и тем временам.

Герои романа выросли в провинции. Сегодня они — москвичи, утвердившиеся в многослойной жизни столицы. Дружбу их питает не только память о речке детства, об аллеях старинного городского сада в те времена, когда носили они брюки-клеш и парусиновые туфли обновляли зубной пастой, когда нервно готовились к конкурсам в московские вузы. Те конкурсы давно позади, сейчас друзья проходят изо дня в день гораздо более трудный конкурс. Напряженная деловая жизнь Москвы с ее индустриальной организацией труда, с ее духовными ценностями постоянно испытывает профессиональную ответственность героев, их гражданственность, которая невозможна без развитой человечности.