Двадцать четыре месяца - [9]
Пока ехали дальше через Украину, на станциях садились новые люди, другие, чем крымчане и севшие в Крыму москвичи-питерцы. Он быстро определил, чем отличаются москвичи-питерцы от провинциалов. Это был другой уровень погруженности в быт, более глубокий. То, что казалось той самой “культурой”, – было более серьезным отношением к вещам, к их отбору, более сознательным и с важностью производимым потреблением, ни в какое сравнение не идущим с легкомыслием озабоченных, казалось бы, своим бытом южан со всей их картошкой и консервацией в ящиках под нижними полками. Столичный отбор совершается не по степени близости к культуре музеев и музыкальных залов, а по степени практичности, которая давно перешла из головы в тело, уже действующее практично само по себе, не рассуждая. Это у них работало в сочетании – глубокая практичность, экономия жеста в том, чтобы не ударить палец о палец без видимой пользы, и в то же время – ровная, бесперебойно производимая все тем же телом, без участия головы, бодрость, когда дело касается добычи, обеспечивающая выживание в любых условиях.
Ехали через Орел, где в сквере сидел белый, в сапогах, с собакой и охотничьей сумкой, набитой, судя по всему, рукописями, привокзальный Тургенев, через неровный, раздираемый холмами на части Мценск. Езда была для него большой радостью, он не скучал, а, как его дочь на карусели, боялся, что вот-вот остановят и все закончится. Он проснулся рано утром, часов в пять, и со своей верхней полки смотрел вниз, за окно. Там внизу лежал туман. Он уже очень давно не видел утреннего тумана: не вставал так рано и не оказывался в это время за городом. Теперь он пожалел, что будет жить в городе, а не в этих прекрасных, утопленных в тумане местах.
Поздним утром, при обычной местной погоде подъезжая к Питеру, он увидел местный же народец, собиравшийся в своих заводских пригородах не сказать – по три, но по пять и больше человек с гранеными стаканами в то время (в прямом смысле, поскольку все это он наблюдал со скоростью мчащегося поезда), как из складских, огороженных колючкой помещений выходили две женщины с тяжеленной, растянутой между их руками сумкой. Он усмехнулся про себя тому, что народ с утра принялся за свои обычные дела и к десяти часам уже хорошо в них преуспел.
Предшествовавший городу пейзаж радости не обещал. За зеленой металлической решеткой стояли в неустойчивой жидкой почве и падали при первой возможности, со сгнившими корнями, елки; сверху их поливало мелким непроходящим дождем – пейзаж, который можно как-то переносить и, возможно, выискивать в нем какую-то красоту, только если знаешь, что приехал сюда для недолгой прогулки.
Под тот же дождь он вышел из Московского вокзала, защищавшего его сначала навесом над платформой, потом высокими потолками вокзального здания. Он не хотел спускаться в метро, ему показалось, что так он сразу утратит свою свободу, поставит себя в зависимое от этого города положение, он собирался стать, наоборот, хозяином положения, и поэтому, хотя вещей у него было немного, а денег – в обрез, он взял такси.
Город, по которому он ехал, навязывал ему чувство пустоты и свободы, которое он принимал за шанс прожить теперь свою неиспользованную юность, прошедшую без особых событий. Адрес на Петроградке он нашел легко, не пришлось ни у кого спрашивать и перезванивать Лизе. Лиза опоздала, но соседи открыли ему дверь. Он ждал Лизу на коммунальной кухне, рассматривая в окно закрытый двор с выпирающими из стен застекленными шахтами лифтов. Чужие окна были так близко, что вспоминались эпистолярные романы девятнадцатого века: “Я увидел вас в окне напротив и не могу стереть из памяти ваш милый образ” – что-то вроде этого. Удивляли и радовали высокие четырехметровые потолки.
Пришла Лиза, и ему стало ясно, насколько далеко ему до хозяина положения по сравнению с ней, его квартирной хозяйкой. Ее бодрость была образцовой, эталонной бодростью. И одета она была так, что выглядела компактно: единой, цельной вещью. Наверное, это и называлось в рекламе, обращенной к девушкам, которую он видел по телевизору: “создать свой образ”. С девушками, умеющими так одеваться, он в своем городе не был знаком.
Лиза открыла ему комнату, отдала ключ, показала, где что в квартире находится, познакомила с соседями. С ним бывало и раньше, что чужие слова доходили до него приглушенными, попадая к нему на дно, пройдя сквозь озеро его мыслей. В этот раз такое состояние помешало ему быть настолько внимательным и дружелюбным с соседями, чтобы это помогло ему избежать будущих с ними конфликтов. А может быть, на него начал усыпляюще действовать непроходящий дождь.
Лиза ушла уже через пятнадцать минут. Она торопилась. Просто била копытом: ей доставляло удовольствие демонстрировать свою собранность и занятость перед вялым с поезда Сашей. Она оставила телефон редактора журнала, которому Саша должен был позвонить. Он отложил звонок на завтра, и устройство в новом жилье отложил на завтра. Он запер комнату и пошел прогуляться по городу.
Сначала ему казалось, что новый воздух совсем лишен запахов. Он привык к тому, чтобы запахов было много и они были насыщенными. Воздух, достаточно легкий, вдыхался почему-то тяжело, в нем было что-то такое же слюдяное и стеклянное, как и в местной воде. Потом запахи появились. Непривычно тянуло мочой из подворотен. Когда он переходил по Тучкову мосту с Петроградки на Васильевский, вдохнул незнакомый речной запах. Возле воды он чувствовал себя оглохшим: ему не хватало прибоя, столько лет шумевшего рядом с ним. Город производил на него впечатление набора стеклянных комнат, в которых холодно и неуютно не потому, что их построили на слишком открытом беспорядкам природы месте, а потому, что построили слишком вдалеке от природы, ее укрывающего уюта. И все-таки какой-то бревенчатый русский уют чувствовался в городе и тянул поехать посмотреть русскую провинцию вроде Углича, Ярославля, Калуги. В пирожковой, где он перекусил, ему понравились изразцы со скирдами с торчащими из них, как не принято на юге, палками, темными избами, белесой погодой и крестьянами, срисованными из каких-то старинных песенников. Возвращаясь к себе на Петроградку, он сделал вывод, что эти места идеально подходят для заброшенного сюда без имени и примет парашютиста, закопавшего свой парашют под сгнившими корнями елки и навсегда забывшего, за кем и в чью пользу он должен здесь шпионить.

Россия, начало 2000-х. Расследования популярного московского журналиста Николая Селиванова вызвали гнев в Кремле, и главный редактор отправляет его, «пока не уляжется пыль», в глухую провинцию — написать о городе под названием Красноленинск, загибающемся после сворачивании работ на градообразующем предприятии, которое все называют просто «комбинат». Николай отправляется в путь без всякого энтузиазма, полагая, что это будет скучнейшая командировка в его жизни. Он еще не знает, какой ужас его ожидает… Этот роман — все, что вы хотели знать о России, но боялись услышать.

Триптих знаменитого сербского писателя Милорада Павича (1929–2009) – это перекрестки встреч Мужчины и Женщины, научившихся за века сочинять престранные любовные послания. Их они умеют передавать разными способами, так что порой циркуль скажет больше, чем текст признания. Ведь как бы ни искривлялось Время и как бы ни сопротивлялось Пространство, Любовь умеет их одолевать.
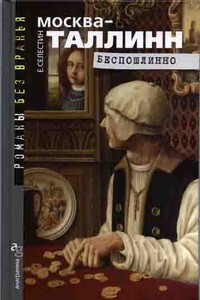
Книга о жизни, о соединенности и разобщенности: просто о жизни. Москву и Таллинн соединяет только один поезд. Женственность Москвы неоспорима, но Таллинн – это импозантный иностранец. Герои и персонажи живут в существовании и ощущении образа этого некоего реального и странного поезда, где смешиваются судьбы, казалось бы, случайных попутчиков или тех, кто кажется знакомым или родным, но стрелки сходятся или разъединяются, и никогда не знаешь заранее, что произойдет на следующем полустанке, кто окажется рядом с тобой на соседней полке, кто разделит твои желания и принципы, разбередит душу или наступит в нее не совсем чистыми ногами.

На пути к мечте герой преодолевает пять континентов: обучается в джунглях, выживает в Африке, влюбляется в Бразилии. И повсюду его преследует пугающий демон. Книга написана в традициях магического реализма, ломая ощущение времени. Эта история вдохновляет на приключения и побуждает верить в себя.

Прогрессивный индийский прозаик известен советскому читателю книгами «Гнев всевышнего» и «Окна отчего дома». Последний его роман продолжает развитие темы эмансипации индийской женщины. Героиня романа Басанти, стремясь к самоутверждению и личной свободе, бросает вызов косным традициям и многовековым устоям, которые регламентируют жизнь индийского общества, и завоевывает право самостоятельно распоряжаться собственной судьбой.
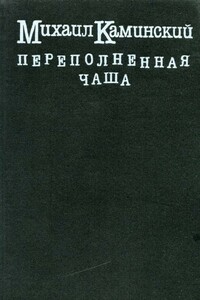
Посреди песенно-голубого Дуная, превратившегося ныне в «сточную канаву Европы», сел на мель теплоход с советскими туристами. И прежде чем ему снова удалось тронуться в путь, на борту разыгралось действие, которое в одинаковой степени можно назвать и драмой, и комедией. Об этом повесть «Немного смешно и довольно грустно». В другой повести — «Грация, или Период полураспада» автор обращается к жаркому лету 1986 года, когда еще не осознанная до конца чернобыльская трагедия уже влилась в судьбы людей. Кроме этих двух повестей, в сборник вошли рассказы, которые «смотрят» в наше, время с тревогой и улыбкой, иногда с вопросом и часто — с надеждой.