Двадцать четыре месяца - [11]
Не зная, задержится ли он тут надолго, он решил вести себя как турист и пользоваться возможностью ходить в картинные галереи, в театр, получать местные впечатления. До этого он не бывал здесь никогда раньше, не разъезжал в экскурсионном автобусе с его тщательно выверенным (для того чтобы объезжать все неприглядное) маршрутом. Никогда не вывозимый вовремя мусор из мусорных баков, непригодные для жизни, особенно для жизни с ребенком – он не исключал возможности привозить сюда дочь на время, – дворы, мертвые крысы и задранные кошками голуби в этих дворах, неопределенного от грязи цвета фасады, рушащаяся с них штукатурка и, например, орден Ленина, оставленный зачем-то на здании консерватории, подрывали его заведомое уважение к парадной части. Зато его восхищали потрясающей красоты девушки с как будто тщательно умытыми, несмотря на то, что они были тщательно накрашенными, лицами. По их уменью украшать собой улицы и любой вид общественного транспорта, где он их в основном и наблюдал, его южным знакомым не стоило бы вступать с ними в соревнование. Еще они были очень бодры. Даже в самый беспросветный дождь. Как Лиза. Лиза была типичной здесь девушкой. Потом ему пришло в голову, что “умытость” здешних лиц связана с чистотой русского произношения. Это произношение раздражало его на юге, но здесь было видно, как оно не дает мышцам лица быть вялыми, не дает потухать взгляду.
Он, как всегда, выстраивал вокруг себя ограду из отрицаний, внутрь которой допускал только насущное, жизненно необходимое. Театр оказался вне ограды. У него не было раньше возможности стать опытным зрителем, но и раньше те страстные разговоры, которые вели на сцене актеры, его смущали, смущало существование целого вида искусства, живущего только страстями. Насмотревшись теперь театральных зрелищ разного, но в основном достаточно высокого качества, он считал театр искусством искажений – того, как люди преломляются от встречи, столкновения друг с другом, как искрят их души, неправдоподобно искажаются лица. Ему был слишком знаком и им слишком мучительно испытан этот эффект зависимости собеседников от фразы, вздоха, икания, движения друг друга, когда и тот, и другой, и третий и сколько ни придется собравшихся вместе болтаются на ниточках этих фраз и хлопаний глазами. А уж сам он всю жизнь реагировал на чужие желания и руководства точным соответствием тому, каким его видели и хотели видеть. Все, что он делал и как вел себя в чужом присутствии, бывало навязано ему этим присутствием. Он готов был удерживать себя, обхватив руками, от этих бессмысленных движений по чужому требованию и никогда не удерживал: то работал всезнайкой, обязанным ответить на любые вопросы на умную тему, то человеком “не нашего круга”, то просто негодяем – это уже по мановению жены. Смотреть театр было мучительно. Ему нравился более чистый эксперимент над человеком портретной живописи. Взаимодействие человека с пейзажем, интерьером не приводило к таким искажениям. Его раздражало, что узнать о человеке “правду” часто считается возможным, только выгнав его голым на мороз или усадив голым же задом на горячую сковороду, – тут-то он и проявит все свои особенности, тут-то и выяснится… Как будто бы в привычной обстановке человек ведет себя как вид, а в непривычной – как личность. Наоборот, думал он, в экстремальной ситуации видовые особенности проявляются сильнее, а привычная обстановка – как раз составляющая личности. В ней и старались писать людей художники прошлого. Может быть, он просто не хотел, чтобы такими способами узнавали правду о нем самом. Театр подтверждал его мнение об общении – что оно и есть самая что ни на есть экстремальная ситуация. В театре оно строилось именно так, как экстремальное, на том стоит театр. Он придумывал для себя другой театр, театр, где зрители рассматривали бы лица. А актеры показывали бы свои лица, расслабленные, не сжатые образом, которых у них не бывает и в кино, а иногда на домашних фото. Театр состоял бы в том, что на лицо можно было бы смотреть с разных точек зрения, в процессе мимики и – без, под разным углом и при разном освещении, на женские лица с макияжем и без, в разное время дня, в интерьерах и на открытом воздухе. И при этом это было бы не реалити-шоу, а настоящий театр, со всеми атрибутами зрелища.
Из всех культурных предложений этого города, включая музыку во множестве вариантов, он нуждался больше всего в живописи. Теперь он мог пристально рассмотреть, как сделано все то, что вызывало у него всегда такие сильные эмоции, напечатанное на мелованной бумаге альбомов. Оказалось, что масло можно размывать, почти как акварель, и оно от этого становится мягким, свободным и воспринимается как прикосновение, что можно запросто сделать кистью рисунок на грунте и больше не трогать “живописью” воздух, образовавшийся вокруг рисунка, что бронзовый грунт, оставленный вокруг предметов в качестве контура, делает предметы очень важными особами, очень дорогими, почти драгоценными. Фокус с бронзовым фоном он повторил в своей “глянцевой” работе, купив для этого отрез в полуподвальном “Доме ткани” на Невском.

Давным-давно, в десятом выпускном классе СШ № 3 города Полтавы, сложилось у Маши Старожицкой такое стихотворение: «А если встречи, споры, ссоры, Короче, все предрешено, И мы — случайные актеры Еще неснятого кино, Где на экране наши судьбы, Уже сплетенные в века. Эй, режиссер! Не надо дублей — Я буду без черновика...». Девочка, собравшаяся в родную столицу на факультет журналистики КГУ, действительно переживала, точно ли выбрала профессию. Но тогда показались Машке эти строки как бы чужими: говорить о волнениях момента составления жизненного сценария следовало бы какими-то другими, не «киношными» словами, лексикой небожителей.

Действие в произведении происходит на берегу Черного моря в античном городе Фазиси, куда приезжает путешественник и будущий историк Геродот и где с ним происходят дивные истории. Прежде всего он обнаруживает, что попал в город, где странным образом исчезло время и где бок-о-бок живут люди разных поколений и даже эпох: аргонавт Язон и французский император Наполеон, Сизиф и римский поэт Овидий. В этом мире все, как обычно, кроме того, что отсутствует само время. В городе он знакомится с рукописями местного рассказчика Диомеда, в которых обнаруживает не менее дивные истории.

В «Рассказах с того света» (1995) американской писательницы Эстер М. Бронер сталкиваются взгляды разных поколений — дочери, современной интеллектуалки, и матери, бежавшей от погромов из России в Америку, которым трудно понять друг друга. После смерти матери дочь держит траур, ведет уже мысленные разговоры с матерью, и к концу траура ей со щемящим чувством невозвратной потери удается лучше понять мать и ее поколение.

Эйприл Мэй подрабатывает дизайнером, чтобы оплатить учебу в художественной школе Нью-Йорка. Однажды ночью, возвращаясь домой, она натыкается на огромную странную статую, похожую на робота в самурайских доспехах. Раньше ее здесь не было, и Эйприл решает разместить в сети видеоролик со статуей, которую в шутку назвала Карлом. А уже на следующий день девушка оказывается в центре внимания: миллионы просмотров, лайков и сообщений в социальных сетях. В одночасье Эйприл становится популярной и богатой, теперь ей не надо сводить концы с концами.
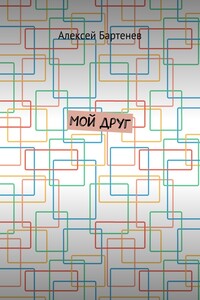
Детство — самое удивительное и яркое время. Время бесстрашных поступков. Время веселых друзей и увлекательных игр. У каждого это время свое, но у всех оно одинаково прекрасно.

Это седьмой номер журнала. Он содержит много новых произведений автора. Журнал «Испытание рассказом», где испытанию подвергаются и автор и читатель.