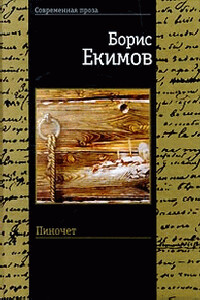Два рассказа - [12]
— Уж не хотела тебя расстраивать, а душа не терпит. Разве так картошку сажают? От рядка к рядку хоть аукайся. Подсказала бы им…
— Я подсказывала… — оправдывалась Миколавна. — Они рукой машут.
— В ножки бы поклониться… — вздыхала тетка Дуня. — Такое добро. И обязаны слухать тебя. Ты — хозяйка. Такое поместье, такая земля пропадает задаром.
Тетка Дуня уходит и приходит, шлепая калошами. Речи все те же:
— Не приезжали? Вот так никому мы не нужны. Огород сохнет, травой зарастает… Чего вырастет?
— Вроде воду качали… — заступается Миколавна. — Толклись там.
— Вот то-то и оно, что толклись… Чужое, оно чужое и есть… Капусту червяк поел, морковку трава забила.
День ото дня вечерние речи горше и откровеннее:
— Глядела я… Полы моет. Лужей нальет. Журчит вода под плинтуса. И чего это будет? Погниет все.
— Машина эта… То заедет, то выедет — всякий день. Скрип да скрип ворота, скрип да скрип. А потом — оторвутся. Будем со всем белым светом жить: все собаки — наши, все кошки, все алкаши, какие по улицам бродят, все цыгане… Отбейся тогда от них.
— Желудок у тебя слабый, больной. А они в тебя — котлеты да котлеты, котлеты да котлеты… Это до поры.
И самое главное — про огород:
— Не хотела тебя расстраивать, а душа не терпит. Какое богатство, а все — в распыл. Картошка еле дышит, лишь взошла, а желтая, вощаная. На помидорах и цвету нет. Огурцы вылезли и стоят. А люди уже на базар несут, и цены хорошие. А тебе на погляд нету, еще и покупать придется, от пенсии копеечку отрывать. Да-да! Зато травы, бурьянов развели темный лес. Волков водить. Потому что ты молчишь, а они — бессовестные…
— Я подсказывала, — оправдывается Миколавна. — Они рукой машут.
— Потому что бессовестные… Такое поместье испоганили, такое богатство… Скрозь пальцы течет…
Вечерние песни, они не нынче, так завтра свое берут: «Не хотела тебя расстраивать, но как промолчать… Ты сама потом будешь упрекать».
В середине лета помогальщики ли, наследники от огорода были отставлены напрочь. К Миколавне они стали ездить реже, в огород — ни ногой. Хозяйничала там тетка Дуня. И теперь калоши ее шлепали к соседскому двору в час вовсе ранний. Шлеп-шлеп-шлеп — мимо Миколавны, прямиком в огород. А тот огород лишь доброму трактору под силу.
Тетка Дуня же словно век земли не видала:
— Поздней капусты посажу…
— Помидоры семечками… — взахлеб спрашивала ли, извещала она Миколавну.
— Сажай. Меньше мыкаться будешь.
— Сажай. Может, прищемишь хвост.
Тетку Дуню торопило время — месяц июль и словно молодой азарт поджигал: наверстать упущенное.
На пустой земле уже поднялась, крепко укоренясь, сочная лебеда, жиловатая конопля — хоть прячься там. Тетка Дуня дергала траву руками с корнем, отвоевывая за пядью пядь.
— Баклажанов… На зиму закрутить.
— Картошки… Она успеет…
А нынешнее лето — сухое, знойное. Термометры день ото дня стараются: тридцать четыре да тридцать пять. Это — в тени. На солнце и вовсе пекло. Тетке Дуне и жара не помеха. Шлеп да шлеп калошами. За неделю она вовсе высохла, почернела и сделалась словно галка.
Дети стали ругаться:
— Тебе это надо? Годы свои хоть считаешь?
— Земля-то гуляет, — вначале оправдывалась она. — Помаленьку копаюсь. Что мне, перину мять? — А потом на приступ пошла: — Жалельщики! Сами зимой летите три раза на дню: «Ой, мама, томату дай… Ой, мама, у тебя огурцы расхорошие». Дай да дай.
Дети от нее отступились, а Миколавна ругается:
— Милосердия называется… Огородница… Проскакала — и нет ее. Ни здравствуй, ни прощай.
Миколавна ругается, колотит костылем по ведру — знак условный. Ведро громыхает и катится. А тетка Дуня — далеко, в конце огорода, не слышит ли, не хочет слышать.
— Делучая… Вот не дам воды, будет знать, — пугает Миколавна.
С водой в соседском дворе беда. Старинный качок еле чвиркает, добывая за каплей каплю. У всех теперь электронасосы «Камы» да «Агидели», шланги да трубы змеятся по огородам. Нажал кнопку — и бьет струя.
Тетка Дуня ведрами поливает. Утром, когда еще в силах, таскает по два ведра, вечером одно еле волокет. Все же семьдесят лет — это возраст. Тем более — такая жара.
Вечерние посиделки в соседском дворе теперь короче.
Миколавна, как и прежде, рассказывает о жизни далекой, из телефильма:
— Она к нему имеет симпатию, а он — женатый, детный…
Тетка Дуня дремлет под мерную речь, порою всхрапывает, сразу просыпаясь. А въяве не чужие страсти ее тревожат, а свое, огородное. И она вставляет невпопад:
— Новая напасть: зеленый червяк на капусте. Лист — как кружево.
Миколавна смолкает, ей нужно время, чтобы перебраться из жизни киношной в свою.
— Тертым табаком попытай, — советует она и продолжает прежний рассказ: — Он — детный, у ней — никого нет, а молодая, в соку…
Тетка Дуня снова задремывает, голова ее беспомощно валится на грудь.
— Спи иди… — говорит ей в конце концов Миколавна.
— Пойду, — соглашается тетка Дуня. — Так ныне заморилась, так заморилась…
— Заморилась она. Дур напал. В дощеку высохла, а жадаешь. Все тебе мало. Значит, здоровье хорошее. По такой жаре…
— Какое здоровье… Ныне полола. И враз в глазах — темная ночь, и все цветками пошло: красный, зеленый… Плывут и плывут. Белого света не вижу. На карачках к бане подлезла, в тенек, там отдыхалась, в память вошла. Так, видно, и помирают, — раздумчиво сказала она.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Дед услышал по радио наивный стишок про войну и вспомнил себя мальчиком из поселка Лазурь, на окраине Сталинграда, близ Мамаева бугра… где он жил до войны и где провел все 200 дней и ночей страшной битвы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В тихом дачном поселке у Волги завелся свой скворушка — мальчонка, живущий без матери, растопил сердца всех родных и соседей.

Заботливая дочь, живущая в городе, подарила деревенской матери мобильный телефон. Но как выбрать, о чем успеть рассказать быстро и коротко? Ведь в хуторской жизни, в стариковском бытье много всего, о чем хочется поговорить…
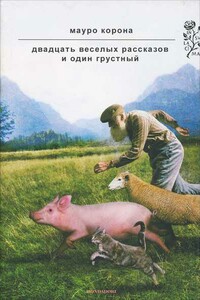
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
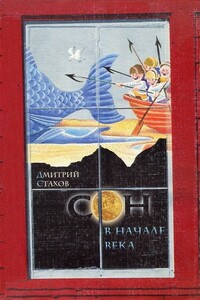
УДК 82-1/9 (31)ББК 84С11С 78Художник Леонид ЛюскинСтахов Дмитрий ЯковлевичСон в начале века : Роман, рассказы /Дмитрий Стахов. — «Олита», 2004. — 320 с.Рассказы и роман «История страданий бедолаги, или Семь путешествий Половинкина» (номинировался на премию «Русский бестселлер» в 2001 году), составляющие книгу «Сон в начале века», наполнены безудержным, безалаберным, сумасшедшим весельем. Весельем на фоне нарастающего абсурда, безумных сюжетных поворотов. Блестящий язык автора, обращение к фольклору — позволяют объемно изобразить сегодняшнюю жизнь...ISBN 5-98040-035-4© ЗАО «Олита»© Д.

Эта книга уникальна уже тем, что создавалась за колючей проволокой, в современной зоне строгого режима. Ее части в виде дневниковых записей автору удалось переправить на волю. А все началось с того, что Борис Земцов в бытность зам. главного редактора «Независимой газеты» попал в скандальную историю, связанную с сокрытием фактов компромата, и был осужден за вымогательство и… хранение наркотиков. Суд приговорил журналиста к 8 годам строгого режима. Однако в конце 2011-го, через 3 года после приговора, Земцов вышел на свободу — чтобы представить читателю интереснейшую книгу о нравах и характерах современных «сидельцев». Интеллигент на зоне — основная тема известного журналиста Бориса Земцова.
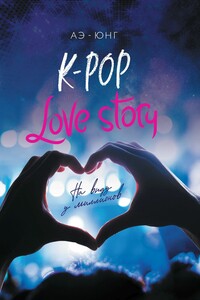
Элис давно хотела поработать на концертной площадке, и сразу после окончания школы она решает осуществить свою мечту. Судьба это или случайность, но за кулисами она становится невольным свидетелем ссоры между лидером ее любимой K-pop группы и их менеджером, которые бурно обсуждают шумиху вокруг личной жизни артиста. Разъяренный менеджер замечает девушку, и у него сразу же возникает идея, как успокоить фанатов и журналистов: нужно лишь разыграть любовь между Элис и айдолом миллионов. Но примет ли она это провокационное предложение, способное изменить ее жизнь? Догадаются ли все вокруг, что история невероятной любви – это виртуозная игра?
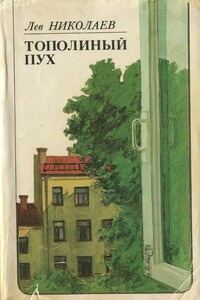
Очень просты эти понятия — честность, порядочность, доброта. Но далеко не проста и не пряма дорога к ним. Сереже Тимофееву, герою повести Л. Николаева, придется преодолеть немало ошибок, заблуждений, срывов, прежде чем честность, и порядочность, и доброта станут чертами его характера. В повести воссоздаются точная, увиденная глазами московского мальчишки атмосфера, быт послевоенной столицы.

Действие повести происходит в период 2-й гражданской войны в Китае 1927-1936 гг. и нашествия японцев.