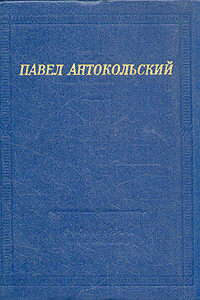Сиял, восхищен горними мирами.
Изображенный для потомков царь.
Художник спал в ту ночь, как в воду канув,
Без снов, усталый крепкий человек.
По дому грузным шагом великанов
Шли между тем часы. Начался век.
И в ту же ночь… А может, и не в ту же
(Их столько было черных, без числа!..),
Озябшая, под мартовскою стужей,
Ему письмо девчонка принесла.
— Встань, дяденька, проснись! Или оглох ты? -
Спросонок он ее понять не мог.
— Откуда?
— От француза с Малой Охты. -
И он вскочил и сжал письмо в комок.
Там были две строки:
«Я умираю.
Приди, пока не поздно. Аристид».
И вот уже он мчится. Вся сырая.
Вся мартовская мгла за ним летит.
Скорей, скорей! Пока не поздно, мимо
Лачуг, заборов, будок и канав.
Всю молодость, всю жизнь неутомимо,
Хотя бы насмерть сердце доконав!
Скорей, скорей! Нет ничему возврата.
Но если вправду сердце не мертво,
Не опоздай на тихий голос брата.
На страшный голос брата твоего!
И хлещет ветер, плащ с тебя срывая,
Дождем и снегом хлещет по лицу…
Чу! Грянул гром. То пушка заревая
Бабахнула на Марсовом плацу.
И ей салют откликнулся с кронверка.
Потом в каре построились войска.
И, всю столицу страхом исковеркав,
Преследует бегущего тоска.
То Павла-императора хоронит
Его столица смирная. И пусть!
Художник о другом слезу уронит,
Другой могиле посвящает грусть.
Он в комнату вошел. На жестком ложе
Лежал старик иль мальчик. Столько лет
Прошло, а не забыл художник кожи,
Натянутой на маленький скелет.
Так угасал изящный и невинный
Француз-художник, дряхлый вертопрах,
Чужим железным веком, как лавиной,
Как жерновами, смолотый во прах.
— Друг! Я не болен, я смертельно трезв.
Нужда или несчастная звезда,
Дорогу отступления отрезав,
На гибель завела меня сюда.
Ты помнишь, — на волне припева, в пене
Косматых шапок, ружей и знамен,
Любой на нас по праву упоенья
Соседом был бы тотчас изменен…
Я знаю, что дела такого рода
Неповторимы, так они просты.
Но если есть бессмертие народа,
То оба мы бессмертны, я и ты.
Друг! Если ты художник с ясным взглядом,
Всмотрись в последний раз в мои глаза
И наклонись к подушке, чтобы рядом
С моей — твоя скатилась бы слеза.
Друг! Если ты… Нет, это все пустое.
Друг! Если ты… О, если ты мне друг,
То обещай, как подобает, стоя,
Спеть нашу песню. Кончено…
Как вдруг
На выступе стенном, как по экрану,
В лучах зари наметилась едва
Та самая, скатившаяся рано,
Взлохмаченная ветром голова,
Кричащая, отмщающая яро,
Летящая сквозь годы и века,
Та голова трибуна-монтаньяра,
В крови и в саже, в космах парика,
Взметенная на пике над Парижем,
Вдруг выросла и — понеслась вперед!
Пусть на холсте, от давней крови рыжем,
Потомок ничего не разберет;
Пусть этот холст в чужой стране пожухнет,
Пусть и создатель бедного холста
В чужой стране от голода распухнет,
Свое творенье бросив неспроста;
Пусть сгинет он изгнанником бездомным,
Пусть и рассвет в сыром окошке сер, -
Художник знал всем ощущеньем темным,
Знал всем сознаньем: это Робеспьер!
И Робеспьер усталым, хриплым горлом
Именовал историю на «ты»,
Он воздухом дышал высокогорным,
Бессмертным кислородом правоты.
Его слова, как врезанные в камень.
На диво были сжаты и просты.
Священный революционный пламень
Взвивался из-под гробовой плиты.
Минуту это длилось, но в минуте
Запечатлелся весь минувший век.
Меж тем художник в первозданной смуте
Рассматривал сквозь пурпур сонных век
Окно, постель и холст, висящий криво…
В смещенье линий, видимых едва,
Он ждал движенья, возгласа, порыва.
Но через миг исчезла голова.
Художник выпрямился. Не хватало
Ему дыханья. В окнах темнота
Ночная поредела. Там светало.
Как медленно светало, как света…
И рассвело. Внезапно, без причины,
Нужнейших слов собрату не сказав,
Он поднялся как бы со дна пучины,
И понял — что проснулся весь в слезах.