Два моих крыла - [37]
Баба Луша хлопотала возле квашни, которая зрела на моей кухне, примешивала, утепляла.
— Не люблю, девка, квашню летом — негде ей пухнуть. Зимой хоть к батарее прислонишь. — И таскалась с квашонкой, подставляя под солнечные лучи на столе, на балконе. Не свадьба — пироги были для нее главным!
— Жених-то нравится? — спросила я у нее.
— Ралиске хоть с которым будет тяжело. Этот, вишь, попался мастак готовить — поваром в армии был. Само по ей.
Пироги удались на славу. В моей квартире долго держался дух хорошо пропеченного теста.
Пригласили на свадьбу и меня.
За столом было тесно. На столе — богато. Лариска в фате за сорок восемь рублей (весь дом знал, что серебром специально отдавали вышить цветы в ателье, оттого и дорогая фата. И то! Вслед за Лариской еще три невесты — окупится!). Платье на Лариске какое-то съемно-разъемное. Туфли на каблучищах; так что жених до уха всего лишь получился.
Сперва хихикали сдержанно, потом разгулялись, в придачу к дорогим подаркам вручили соску-пустышку и погремушку. Пили и ели. Отваленную от рыбного пирога корку подложили под блюдо с жареными карасями. Я выпростала эту корку, и меня опахнуло запахом хорошо пропеченного теста.
— Верхнюю корку люблю не толсту не тонку, — послышалось мне. — У нас тятя не любил, когда она хрустит, — надо, чтоб корочка с тестом и чтоб дышала она вся. Это уж после, как вынешь пирог, да сбрызнешь, да под холстину положишь, тожно она и отойдет, как надо.
Оглянулась. Поискала глазами бабу Лушу. Ее нигде не было. Встав, заглянула в кухню.
Она сидела за огромным холодильником. Руки с пожухлой, как старый пергамент, кожей были сцеплены на коленях. Большие пальцы, один вокруг другого, бегали то в одну, то в другую сторону.
— Свадьба… — тихо прошептала она. — Хоть бы правнучка дождаться… А пироги-то что ж? Хорошо идут?
Бросовая
Редко нынче деревня частушкой колыхнется, все больше с гитарой молодежь ходит. Не шибко и струна выговаривает, не сравнишь, конечно, с хромкой, куда до нее! Хромка в умелых-то руках будто хмелем в душу плеснет. Откуда что и возьмется: зуд в подошвах, ровно щекочет их кто, и пошли девки дробить, а половицы вздрагивать, и пошла кружить частушка с голоса на голос, с угла на угол:
Евдокия застала то время, когда, управив скотину, молодая деревня спешила на вечерки. Ворчали еще нестарые матери, грозились дверь с первым петухом запереть. Но все это было так, для острастки, для порядка. Как знать, не рвалась ли материнская душа туда, за ней, дочерью, к частушке, к вытоптанному и забитому каблуками куску поскотины за деревней, к светлеющему краю неба, куда все дальше и дальше уходила дочь? И не оттого, может, не спалось матери, что поджидала гулену-дочь, может, и ей хмельными волнами туманила голову и жгла губы, пепелила крепкое тело и ломала на части липкая темень избы. Деваться было некуда от тоски по крепким мужицким рукам, силу и ласку которых отняла военная круговерть.
Да откуда было знать Евдокии про ту тоску, если мать, упластавшись за день, приходила домой вся черная, и обе они, едва опнувшись, начинали мыть, скрести, обиходить пусть и небольшое, но отбиравшее немало времени хозяйство. Стала понимать материнскую судьбу позже, когда самой не посчастливилось…
Не поют теперь частушек, а нет-нет и колыхнет душу будто про тебя сложенная:
Распалася… А ведь была ж, поди, любовь. Стеснялась только Евдокия, сказать не умела заветного, несла в себе молча первое чувство, берегла дружка милого горячие слова, на одном дыхании сказанные, думала, на всю жизнь сбережет…
Укатились годы, и только слова остались при ней, раскаленные, подушку горячащие. За тридцать перевалило, полные сундуки богатства имела, а ласки в пол-окна не видела. Виновата ли была в этом? Ответить не умела. Мать говорила, что виновата. А где было знать Евдокии, восемнадцатилетней, что какой бы ни был муж, а не только уход — догляд за ним нужен. Медовый год еще не прошел, а Федька уехал с другой, не объяснившись, слова не сказав, будто в холодный колодец с маху бросил. Как осталась она тогда в недоумении, так и прожила все пятнадцать лет, наивно думая, что такая ее судьба, бросовая.
Работала Евдокия свинаркой, обновы себе заводила. Любила, принарядившись, с молодыми девчатами в клубе посидеть. Танцевать не умела, кроме кадрили с шестью фигурами, но и в деревне этот танец совсем забыли. Сидела Евдокия на скамье прямо, вся пахнущая нафталином, в глянцево-блестящих хромовых сапожках — любила их, несмотря на то, что мода на них давно отошла. К чему привыкла, носила годами, бережно.
К двенадцати ночи гармонист да две-три пары оставались. Вот тут и Евдокия вставала, оправляла помявшуюся юбку и шла домой.
Изредка заходили в клуб подвыпившие семейные мужики: то с женой в ссоре, то из-за озорства. Подкатит такой к Евдокии, будто невзначай руку на талию положит, то еще какую вольность позволит. Встанет Евдокия, стряхнет чужую руку и на другое место пересядет. Настена, ровесница Евдокии, скажет при случае: «И чего ты только выжидаешь, царевна Несмеяна? Живешь ни богу свечка ни черту кочерга. Эх, Дуня, Дуня, жизнь бабья — короткий лучик, а обогреть кого-то все равно надо успеть». И уйдет под руку с одним из парней.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В городе закрыли тюрьму. Из ее ворот вышли последние обитатели — рецидивист Сергей Дурнов — Мокруха, карманник Иван Одинцов — Цыган, наводчица Ольга Лихова.Осень. Чтобы осмотреться, восстановить связи с преступным миром и переждать зиму, они соглашаются идти работать на завод. А заводской коллектив — это среда, в которой переплавляются и закаляются характеры, все скверное, мерзкое сгорает, всплывает пеной на поверхности.Тревогой автора за каждого героя проникнут роман о людях с трудной судьбой и сложными, противоречивыми характерами.
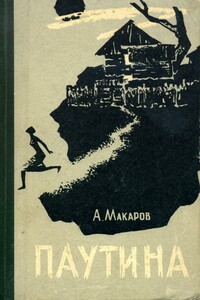
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Снег уже стаял, но весенние морозцы сковывают землю.В ночную тишину падает надсаживающийся пьяный крик:– Пота-а-пыч!.. А-а-ать? Пота-а-апыч!..».

Жизнь деревни двадцатых годов, наполненная острой классовой борьбой, испытания, выпавшие на долю новых поколений ее, — главная тема повестей и рассказов старейшего уральского писателя.Писатель раскрывает характеры и судьбы духовно богатых людей, их служение добру и человечности.
